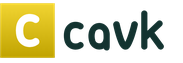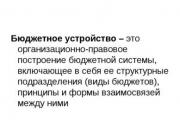Книга большие надежды читать онлайн. Чарльз Диккенс и его роман «Большие надежды
ГЛАВА I
Фамилия моего отца была Пиррип, мне дали при крещении имя Филип, а так
как из того и другого мой младенческий язык не мог слепить ничего более
внятного, чем Пип, то я называл себя Пипом, а потом и все меня стали так
называть.
О том, что отец мой носил фамилию Пиррип, мне достоверно известно из
надписи на его могильной плите, а также со слов моей сестры миссис Джо
Гарджери, которая вышла замуж за кузнеца. Оттого, что я никогда не видел ни
отца, ни матери, ни каких-либо их портретов (о фотографии в те времена и не
слыхивали), первое представление о родителях странным образом связалось у
меня с их могильными плитами. По форме букв на могиле отца я почему-то
решил, что он был плотный и широкоплечий, смуглый, с черными курчавыми
волосами. Надпись "А также Джорджиана, супруга вышереченного" вызывала в
моем детском воображении образ матери - хилой, веснушчатой женщины.
Аккуратно расположенные в ряд возле их могилы пять узеньких каменных
надгробий, каждое фута в полтора длиной, под которыми покоились пять моих
маленьких братцев, рано отказавшихся от попыток уцелеть во всеобщей борьбе,
породили во мне твердую уверенность, что все они появились на свет, лежа
навзничь и спрятав руки в карманы штанишек, откуда и не вынимали их за все
время своего пребывания на земле.
Мы жили в болотистом крае близ большой реки, в двадцати милях от ее
впадения в море. Вероятно, свое первое сознательное впечатление от
окружающего меня широкого мира я получил в один памятный зимний день, уже
под вечер. Именно тогда мне впервые стало ясно, что это унылое место,
обнесенное оградой и густо заросшее крапивой, - кладбище; что Филип Пиррип,
житель сего прихода, а также Джорджиана, супруга вышереченного, умерли и
похоронены; что малолетние сыновья их, младенцы Александер, Бартоломью,
Абраам, Тобиас и Роджер, тоже умерли и похоронены; что плоская темная даль
за оградой, вся изрезанная дамбами, плотинами и шлюзами, среди которых
кое-где пасется скот, - это болота; что замыкающая их свинцовая полоска -
река; далекое логово, где родится свирепый ветер, - море; а маленькое
дрожащее существо, что затерялось среди всего этого и плачет от страха, -
Пип.
- А ну, замолчи! - раздался грозный окрик, и среди могил, возле
паперти, внезапно вырос человек. - Не ори, чертенок, не то я тебе горло
перережу!
Страшный человек в грубой серой одежде, с тяжелой цепью на ноге!
Человек без шапки, в разбитых башмаках, голова обвязана какой-то тряпкой.
Человек, который, как видно, мок в воде и полз по грязи, сбивал и ранил себе
ноги о камни, которого жгла крапива и рвал терновник! Он хромал и трясся,
таращил глаза и хрипел и вдруг, громко стуча зубами, схватил меня за
подбородок.
Роман «Большие надежды» принадлежит к числу поздних произведений Диккенса. Он был написан в 1860 году, когда за плечами писателя был большой жизненный и творческий опыт. Диккенс обращался к важнейшим конфликтам своего времени, делал смелые социальные обобщения. Он подвергал критике политический строй Англии, парламент и суд.
Впервые роман «Большие надежды» публиковался в издаваемом Диккенсом журнале «Круглый год», выходившем еженедельно. Публикация продолжалась с декабря 1860года по август 1861 года. Затем роман был издан отдельной книгой. На русском языке он печатался сразу же после его появления в Англии в 1861 году в журнале «Русский вестник».
Две большие темы подняты в романе Диккенса «Большие надежды» - тема утраченных иллюзий и тема преступления и наказания. Они тесно связаны и воплощены в истории Пипа и судьбе Мэгвича. Пип – главный герой романа. Именно от его лица ведется повествование. Пип рассказывает читателю историю своей жизни, полную таинственных событий, приключений и бед.
Однажды ночью на кладбище, куда пришел 7-летний Пип, чтобы навестить могилы родителей, ему встречается беглый каторжник и просит, чтобы мальчик помог ему. В тайне от воспитывающей его старшей сестры и её мужа, единственного друга Пипа, Джо Гарджери, он берет дома подпилок и еду и тем самым помогает каторжнику освободиться.
Затем появляется вторая сюжетная линия романа. Пип посещает странный дом, в котором жизнь замерла в день несостоявшейся свадьбы хозяйки, мисс Хэвишем. Она так и состарилась, не видя света, сидя в истлевшем подвенечном платье. Мальчик должен развлекать леди, играть в карты с ней и её юной воспитанницей, красавицей Эстеллой. С первого взгляд он влюбляется в девочку, но это и было целью мисс Хэвишем. Он хотела отомстить всем лицам мужского пола за свою несчастную любовь. «Разбивай их сердца, гордость моя и надежда, - повторяла она, - разбивай их без жалости!» Первой жертвой Эстеллы и становится Пип.
Но однажды к мальчику подходит человек, которого он однажды видел в доме мисс Хэвишем и предлагает ему поехать с ним в Лондон, где его ждут Большие Надежды. Он сообщает, что отныне у Пипа есть покровитель, который готов сделать из него настоящего джентльмена. Пип не может устоять от такого заманчивого предложения, ведь именно об этом он всю жизнь мечтал. Он не сомневается, что его таинственным покровителем является могущественная мисс Хэвишем, он уверен, что Эстелла предназначена для него. Он ведет разгульный образ жизни, тратит деньги, влезает в долги и совершенно забывает о том, кто его воспитал, о своих бедных друзьях, оставшихся в деревне. Диккенс показывает жизнь современной Англии отнюдь не с хорошей стороны. Пип сталкивается с двуличными и жестокими людьми, которыми правит желание обогатиться. По сути Пип становится частью этого общества. В романе «Большие надежды» речь идет о том, что для честного и бескорыстного человека нет места и не может быть удовлетворения в пустой, хотя и обеспеченной жизни джентльменов, потому что такая жизнь убивает в людях все лучшее.
Но Большие надежды Пипа рушатся, когда он узнает, что его покровителем является не мисс Хэвишем, а тот самый беглый каторжник, Абель Мэгвич, которому маленький мальчик однажды помог.
«Большие надежды» - это не только роман о частной судьбе Пипа. И это, конечно, не только занимательное произведение с детективной линией - выяснение тайн Пипа, Эстеллы, мисс Хэвишем. Детектив здесь вторичен. Судьбы всех действующих лиц романа бесконечно переплетаются: Мэгвич - благодетель Пипа, но он же отец Эстеллы, которая, подобно Пипу, живет в дурмане «больших надежд» и верит в свое знатное происхождение. Служанка в доме Джеггерза, адвоката, который и привез Пипа в Лондон и который по сути является центральным звеном в запутанных отношениях героев романа, - убийца - оказывается матерью этой холодной красавицы. Компсон, неверный жених мисс Хэвишем, - заклятый враг Мэгвича. Обилие преступников в романе не просто дань криминальной литературе. Это способ для Диккенса обнажать преступную сущность буржуазной действительности.
Клерк Уэммик в конторе Джеггерза - еще один пример того, что делает с личностью буржуазное общество. Он «раздвоился». На работе - сух, предельно расчетлив; дома в своем крошечном садике он гораздо более человечен. Получается, что буржуазное и человеческое несовместимы.
Диккенс показывает, как антигуманное общество калечит и уродует людей, отправляет их на каторгу и виселицы. Так складывается судьба Абеля Мэгвича. История его жизни – это история постепенного падения и гибели человека под бременем бесчеловечных законов и несправедливых порядков, установленных лицемерным обществом джентльменов. Загнанный и ожесточившийся человек, он стремится взять реванш в жизни, вторгнуться в ненавистный ему ив то же время такой заманчивый мир джентльменов. Этот мир притягивает Мэгвича вольной и легкой жизнью, которой сам он никогда не жил. Орудием исполнения желаний Мэгвича становится Пип – единственное существо, пожалевшее его, беглого каторжника. Мысль о том, что он сделал Пипа «настоящим джентльменом», приносит радость и удовлетворение Мэгвичу. Но деньги Мэгвича не делают Пипа счастливым. Однако страдания его покровителя преобразили юношу, превратив его из честолюбивого молодого джентльмена с надеждами на обеспеченное существование в человека, способного на сострадание и помощь ближнему, хотя его «большие надежды» и рухнули. Если в начале романа надежды Пипа автор называл «Большими Надеждами», то в конце они превратились лишь в «жалкие мечты».
Но не только деньги Мэгвича сделали судьбу Пипа несчастной. Богатство мисс Хэвишем уродует характер Эстеллы и ломает ее судьбу. Заставляя свою воспитанницу жить по законам высшего общества, мисс Хэвишем лишает ее человечности. Слишком поздно она сознает свою вину перед Эстеллой: «Украла у нее сердце и на место его вложила кусок льда».
Сложные судьбы героев романа раскрывают природу буржуазного общества – двуличного и анархичного, преступного в своей основе.
Нравственно-эстетический идеал Диккенса воплощен в образах простых людей. Джо, Бидди и Герберт Покет, порвавший со своим нелепым семейством, являются подлинными друзьями Пипа, каждый из них оказывает ему помощь в самые трудные минуты его жизни. Однако понять и оценить этих людей Пип смог далеко не сразу. Жизнь и взгляды деревенского кузнеца Джо – это своего рода жизненная программа, которую предлагает Диккенс, сопоставляя ее с ошибками и заблуждениями Пипа. Смысл жизни Джо видит в труде, приносящем ему радость. Он спокойно и просто смотрит на жизнь, будучи убежден, что только правдой можно «добиться своего, а кривдой никогда ничего не добьешься». Джо мечтает о единении простых людей: «Оно, пожалуй, и лучше было бы, кабы обыкновенные люди, то есть кто попроще да победнее, так бы и держались друг за дружку». Тихий и простоватый Джо внутренне независимый и гордый человек.
Глубокой грустью и болью овеяны страницы «Больших надежд», тихая печаль определяет тональность заключительных сцен романа, хотя Диккенс и приоткрывает для своих героев – Пипа и Эстеллы – некоторую надежду на перемены в их судьбе.
В романе «Большие надежды» очень ясно показан гуманизм и демократическое начало Диккенса. Сам он писал: «Моя вера в народ беспредельна», что точно выражает его позицию. Защитником низших против высших называл Диккенса Н.Г. Чернышевский, о своем преклонении перед писателем, «постигшим труднейшее искусство любви к людям», писал М. Горький. Но, пожалуй, лучше всех о Ч. Диккенсе отзывался Ф.М. Достоевский: «Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс».
GREAT EXPECTATIONS
© Перевод. М. Лорие, наследники, 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2014
Глава I
Фамилия моего отца была Пиррип, мне дали при крещении имя Филип, а так как из того и другого мой младенческий язык не мог слепить ничего более внятного, чем Пип, то я называл себя Пипом, а потом и все меня стали так называть.
О том, что отец мой носил фамилию Пиррип, мне достоверно известно из надписи на его могильной плите, а также со слов моей сестры миссис Джо Гарджери, которая вышла замуж за кузнеца. Оттого, что я никогда не видел ни отца, ни матери, ни каких-либо их портретов (о фотографии в те времена и не слыхивали), первое представление о родителях странным образом связалось у меня с их могильными плитами. По форме букв на могиле отца я почему-то решил, что он был плотный и широкоплечий, смуглый, с черными курчавыми волосами. Надпись «А также Джорджиана, супруга вышереченного» вызывала в моем детском воображении образ матери – хилой веснушчатой женщины. Аккуратно расположенные в ряд возле их могилы пять узеньких каменных надгробий, каждое фута в полтора длиной, под которыми покоились пять моих маленьких братцев, рано отказавшихся от попыток уцелеть во всеобщей борьбе, породили во мне твердую уверенность, что все они появились на свет, лежа навзничь и спрятав руки в карманы штанишек, откуда и не вынимали их за все время своего пребывания на земле.
Мы жили в болотистом крае близ большой реки, в двадцати милях от ее впадения в море. Вероятно, свое первое сознательное впечатление от окружающего меня широкого мира я получил в один памятный зимний день, уже под вечер. Именно тогда мне впервые стало ясно, что это унылое место, обнесенное оградой и густо заросшее крапивой, – кладбище; что Филип Пиррип, житель сего прихода, а также Джорджиана, супруга вышереченного, умерли и похоронены; что малолетние сыновья их, младенцы Александер, Бартоломью, Абраам, Тобиас и Роджер, тоже умерли и похоронены; что плоская темная даль за оградой, вся изрезанная дамбами, плотинами и шлюзами, среди которых кое-где пасется скот, – это болота; что замыкающая их свинцовая полоска – река; далекое логово, где родится свирепый ветер, – море; а маленькое дрожащее существо, что затерялось среди всего этого и плачет от страха, – Пип.
– А ну, замолчи! – раздался грозный окрик, и среди могил, возле паперти, внезапно вырос человек. – Не ори, чертенок, не то я тебе горло перережу!
Страшный человек в грубой серой одежде, с тяжелой цепью на ноге! Человек без шапки, в разбитых башмаках, голова обвязана какой-то тряпкой. Человек, который, как видно, мок в воде и полз по грязи, сбивал и ранил себе ноги о камни, которого жгла крапива и рвал терновник! Он хромал и трясся, таращил глаза и хрипел и вдруг, громко стуча зубами, схватил меня за подбородок.
– Ой, не режьте меня, сэр! – в ужасе взмолился я. – Пожалуйста, сэр, не надо!
– Как тебя звать? – спросил человек. – Ну, живо!
– Пип, сэр.
– Как, как? – переспросил человек, сверля меня глазами. – Повтори.
Пип, сэр.
– Где ты живешь? – спросил человек. – Покажи!
Я указал пальцем туда, где на плоской прибрежной низине, в доброй миле от церкви, приютилась среди ольхи и ветел наша деревня.
Посмотрев на меня с минуту, человек перевернул меня вниз головой и вытряс мои карманы. В них ничего не было, кроме куска хлеба. Когда церковь стала на место, – а он 6ыл до того ловкий и сильный, что разом опрокинул ее вверх тормашками, так что колокольня очутилась у меня под ногами, – так вот, когда церковь стала на место, оказалось, что я сижу на высоком могильном камне, а он пожирает мой хлеб.
– Ух ты, щенок, – сказал человек, облизываясь. – Надо же, какие толстые щеки!
Возможно, что они и правда были толстые, хотя я в ту пору был невелик для своих лет и не отличался крепким сложением.
– Так бы вот и съел их, – сказал человек и яростно мотнул головой, – а может, черт подери, я и взаправду их съем.
Я очень серьезно его попросил не делать этого и крепче ухватился за могильный камень, на который он меня посадил, – отчасти для того, чтобы не свалиться, отчасти для того, чтобы сдержать слезы.
– Слышь ты, – сказал человек. – Где твоя мать?
– Здесь, сэр, – сказал я.
Он вздрогнул и кинулся было бежать, потом, остановившись, оглянулся через плечо.
– Вот здесь, сэр, – робко пояснил я. – «Также Джорджиана». Это моя мать.
– А-а, – сказал он, возвращаясь. – А это, рядом с матерью, твой отец?
– Да, сэр, – сказал я. – Он тоже здесь: «Житель сего прихода».
– Так, – протянул он и помолчал. – С кем же ты живешь, или, вернее сказать, с кем жил, потому что я не решил еще, оставить тебя в живых или нет.
– С сестрой, сэр. Миссис Джо Гарджери. Она жена кузнеца, сэр.
– Кузнеца, говоришь? – переспросил он. И посмотрел на свою ногу.
Он несколько раз переводил хмурый взгляд со своей ноги на меня и обратно, потом подошел ко мне вплотную, взял за плечи и запрокинул назад сколько мог дальше, так что его глаза испытующе глядели на меня сверху вниз, а мои растерянно глядели на него снизу вверх.
– Теперь слушай меня, – сказал он, – и помни, что я еще не решил, оставить тебя в живых или нет. Что такое подпилок, ты знаешь?
– Да, сэр.
– А что такое жратва, знаешь?
– Да, сэр.
После каждого вопроса он легонько встряхивал меня, чтобы я лучше чувствовал грозящую мне опасность и полную свою беспомощность.
– Ты мне достанешь подпилок. – Он тряхнул меня. – И достанешь жратвы. – Он снова тряхнул меня. – И принесешь все сюда. – Он снова тряхнул меня. – Не то я вырву у тебя сердце с печенкой. – Он снова тряхнул меня.
Я был до смерти перепуган, и голова у меня так кружилась, что я вцепился в него обеими руками и сказал:
– Пожалуйста, сэр, не трясите меня, тогда меня, может, не будет тошнить и я лучше пойму.
Он так запрокинул меня назад, что церковь перескочила через свою флюгарку. Потом выпрямил одним рывком и, все еще держа за плечи, заговорил страшнее прежнего:
– Завтра чуть свет ты принесешь мне подпилок и жратвы. Вон туда, к старой батарее. Если принесешь, и никому ни слова не скажешь, и виду не подашь, что встретил меня или кого другого, тогда, так и быть, живи. А не принесешь или отступишь от моих слов хоть вот на столько, тогда вырвут у тебя сердце с печенкой, зажарят и съедят. И ты не думай, что мне некому помочь. У меня тут спрятан один приятель, так я по сравнению с ним просто ангел. Этот мой приятель слышит все, что я тебе говорю. У этого моего приятеля свой секрет есть, как добраться до мальчишки, и до сердца его, и до печенки. Мальчишке от него не спрятаться, пусть лучше и не пробует. Мальчишка и дверь запрет, и в постель залезет, и с головой одеялом укроется, и будет думать, что вот, мол, ему тепло и хорошо и никто его не тронет, а мой приятель тихонько к нему подберется, да и зарежет!.. Мне и сейчас-то знаешь как трудно сделать, чтобы он на тебя не бросился. Я его еле держу, до того ему не терпится тебя сцапать. Ну, что ты теперь скажешь?
Я сказал, что достану ему подпилок, и еды достану, сколько найдется, и принесу на батарею, рано утром.
– Повтори за мной: «Разрази меня Бог, если вру», – сказал человек.
Я повторил, и он снял меня с камня.
– А теперь, – сказал он, – не забудь, что обещал, и про того моего приятеля не забудь, и беги домой.
– П-покойной ночи, сэр, – пролепетал я.
– Покойной! – сказал он, окидывая взглядом холодную мокрую равнину. – Где уж тут! В лягушку бы, что ли, превратиться. Либо в угря.
Он крепко обхватил обеими руками свое дрожащее тело, словно опасаясь, что оно развалится, и заковылял к низкой церковной ограде. Он продирался сквозь крапиву, сквозь репейник, окаймлявший зеленые холмики, а детскому моему воображению представлялось, что он увертывается от мертвецов, которые бесшумно протягивают руки из могил, чтобы схватить его и утащить к себе, под землю.
Он дошел до низкой церковной ограды, тяжело перелез через нее, – видно было, что ноги у него затекли и онемели, – а потом оглянулся на меня. Тогда я повернул к дому и пустился наутек. Но, пробежав немного, я оглянулся: он шел к реке, все так же обхватив себя за плечи и осторожно ступая сбитыми ногами между камней, набросанных на болотах, чтобы можно было проходить по ним после затяжных дождей или во время прилива.
Я смотрел ему вслед, болота тянулись передо мною длинной черной полосой; и река за ними тоже тянулась полосой, только поуже и посветлее; а в небе длинные кроваво-красные полосы перемежались с густо-черными. На берегу реки глаз мой едва различал единственные во всем ландшафте два черных предмета, устремленных вверх: маяк, по которому держали курс корабли, – очень безобразный, если подойти к нему поближе, словно бочка, надетая на шест; и виселицу с обрывками цепей, на которой некогда был повешен пират. Человек ковылял прямо к виселице, словно тот самый пират воскрес из мертвых и, прогулявшись, теперь возвращался, чтобы снова прицепить себя на старое место. Мысль эта привела меня в содрогание; заметив, что коровы подняли головы и задумчиво смотрят ему вслед, я спросил себя, не кажется ли им то же самое. Я огляделся, ища глазами кровожадного приятеля моего незнакомца, но ничего подозрительного не обнаружил. Однако страх снова овладел мною, и я, уже не останавливаясь больше, побежал домой.
Глава II
Моя сестра миссис Джо Гарджери была меня старше более чем на двадцать лет и заслужила уважение в собственных глазах и в глазах соседей тем, что воспитала меня «своими руками». Поскольку мне пришлось самому додумываться до смысла этого выражения и поскольку я знал, что рука у нее тяжелая и жесткая и что ей ничего не стоит поднять ее не только на меня, но и на своего мужа, я считал, что нас с Джо Гарджери обоих воспитали «своими руками».
Моя сестра была далеко не красавица; поэтому у меня создалось впечатление, что она и женила на себе Джо Гарджери своими руками. У Джо Гарджери, светловолосого великана, льняные кудри обрамляли чистое лицо, а голубые глаза были до того светлые, как будто их синева нечаянно перемешалась с их же белками. Это был золотой человек, тихий, мягкий, смирный, покладистый, простоватый, Геркулес и по силе своей и по слабости.
У моей сестры, миссис Джо, черноволосой и черноглазой, кожа на лице была такая красная, что я порою задавал себе вопрос: уж не моется ли она теркой вместо мыла? Была она рослая, костлявая и почти всегда ходила в толстом переднике с лямками на спине и квадратным нагрудником вроде панциря, сплошь утыканным иголками и булавками. То, что она постоянно носила передник, она ставила себе в великую заслугу и вечно попрекала этим Джо. Я, впрочем, не вижу, зачем ей вообще нужно было носить передник или почему, раз уж она его носила, ей нельзя было ни на минуту с ним расстаться.
Кузница Джо примыкала к нашему дому, а дом был деревянный, как и многие другие, – вернее, как почти все дома в нашей местности в то время. Когда я прибежал домой с кладбища, кузница была закрыта и Джо сидел один в кухне. Так как мы с Джо были товарищами по несчастью и у нас не было секретов друг от друга, он и тут шепнул мне кое-что, едва я, приподняв щеколду и заглянув в щелку, увидел его в углу у очага, как раз против двери.
– Миссис Джо раз двенадцать, не меньше, выходила тебя искать, Пип. Сейчас опять пошла, как раз будет чертова дюжина.
– Ой, правда?
– Правда, Пип, – сказал Джо. – И хуже того, она Щекотун с собой захватила.
Услышав эту печальную весть, я совсем упал духом и, глядя в огонь, стал крутить единственную пуговицу на своей жилетке. Щекотун – это была трость с навощенным концом, до блеска отполированная частым щекотанием моей спины.
– Она тут сидела, – сказал Джо, – а потом как вскочит, да как схватит Щекотун, да и побежала лютовать на улицу. Вот так-то, – сказал Джо, глядя в огонь и помешивая угли просунутой через решетку кочергой. – Взяла да и побежала, Пип.
– Она давно ушла, Джо? – Я всегда видел в нем равного себе, такого же ребенка, только побольше ростом.
Джо взглянул на стенные часы.
– Да наверно уже минут пять как лютует. Ого, идет! Прячься за дверь, дружок, да завесься полотенцем.
Я послушался его совета. Моя сестра миссис Джо распахнула дверь и, почувствовав, что она не отворяется до конца, немедленно угадала причину и стала ее обследовать с помощью Щекотуна. Кончилось тем, что она швырнула мною в Джо, – в семейном обиходе я нередко служил ей метательным снарядом, – а тот, всегда готовый принять меня на любых условиях, спокойно усадил меня в уголок и загородил своим огромным коленом.
– Где тебя носило, постреленок? – сказала миссис Джо, топнув ногой. – Сейчас же говори, где ты шатался, пока я тут места себе не находила от беспокойства да страха, а не то выволоку тебя из угла, будь вас тут хоть полсотни Пипов и целая сотня Гарджери.
– Я только ходил на кладбище, – сказал я, плача и потирая побитые места.
– На кладбище! – повторила сестра. – Кабы не я, ты бы давно был на кладбище. Кто тебя воспитал своими руками?
– Вы, – сказал я.
– А для чего это мне понадобилось, скажи на милость? – продолжала сестра.
Я всхлипнул:
– Не знаю.
– Ну и я не знаю, – сказала сестра. – В другой раз ни за что бы не стала. Это-то я знаю наверняка. С тех пор как ты родился, я вот этот передник, можно сказать, никогда не снимала. Мало мне горя, что я кузнецова жена (да притом муж-то Гарджери), так нет, изволь еще тебе быть матерью!
Но я уже не прислушивался к ее словам. Я уныло смотрел на огонь, и в злобно мерцающих углях передо мной вставали болота, беглец с тяжелой цепью на ноге, его таинственный приятель, подпилок, жратва и связывавшая меня страшная клятва обворовать родной дом.
– Н-да! – сказала миссис Джо, водворяя Щекотун на место. – Кладбище! Легко вам говорить «кладбище»! – Один из нас, кстати сказать, не произнес ни слова. – Скоро я по вашей милости сама попаду на кладбище, и хороши вы, голубчики, будете без меня! Нечего сказать, славная парочка!
Воспользовавшись тем, что она стала накрывать на стол к чаю, Джо заглянул через свое колено ко мне в уголок, словно прикидывая в уме, какая из нас получится парочка, в случае если осуществится это мрачное пророчество. Потом он выпрямился и, как обычно бывало во время домашних бурь, стал молча следить за миссис Джо своими голубыми глазами, правой рукой теребя свои русые кудри и бакены.
У моей сестры был особый, весьма решительный способ готовить нам хлеб с маслом. Левой рукой она крепко прижимала ковригу к нагруднику, откуда в нее иногда впивалась иголка или булавка, которая затем попадала нам в рот. Потом брала на нож масла (не слишком много) и размазывала его по хлебу, как аптекарь готовит горчичник, проворно поворачивая нож то одной, то другой стороной, аккуратно подправляя и обирая масло у корки. Наконец, ловко отерев нож о край горчичника, она отпиливала от ковриги толстый ломоть, рассекала его пополам и одну половину давала Джо, а другую мне.
В тот вечер я не посмел съесть свою порцию, хоть и был голоден. Нужно было приберечь что-нибудь для моего страшного знакомца и его еще более страшного приятеля. Я знал, что миссис Джо придерживается строжайшей экономии в хозяйстве и что моя попытка стащить у нее что-нибудь может окончиться ничем. Поэтому я решил на всякий случай спустить свой хлеб в штанину.
Оказалось, что отвага для выполнения этого замысла требуется почти сверхчеловеческая. Словно мне предстояло спрыгнуть с крыши высокого дома или броситься в глубокий пруд. И еще больше затруднял мою задачу ничего не подозревавший Джо. Оттого что мы, как я уже упоминал, были товарищами по несчастью и в своем роде заговорщиками и оттого что он по доброте своей всегда рад был меня позабавить, мы завели обычай – сравнивать, кто быстрее съест хлеб: за ужином мы украдкой показывали друг другу свои надкусанные ломти, а потом старались еще пуще. В тот вечер Джо несколько раз вызывал меня на это дружеское состязание, показывая мне свой быстро убывающий ломоть; но всякий раз он убеждался, что я держу свою желтую кружку с чаем на одном колене, а на другом лежит мой хлеб с маслом, даже не початый. Наконец, собравшись с духом, я решил, что больше медлить нельзя и что будет лучше, если неизбежное свершится самым естественным при данных обстоятельствах образом. Я улучил минуту, когда Джо отвернулся от меня, и спустил хлеб в штанину.
Джо явно огорчился, вообразив, что я потерял аппетит, и рассеянно откусил от своего хлеба кусок, который, казалось, не доставил ему никакого удовольствия. Он гораздо дольше обычного жевал его, что-то при этом обдумывая, и наконец проглотил, как пилюлю. Потом, нагнув голову набок, чтобы получше примериться к следующему куску, он невзначай поглядел на меня и увидел, что мой хлеб исчез.
Изумление и ужас, изобразившиеся на лице Джо, когда он, не успев донести ломоть до рта, впился в меня глазами, не ускользнули от внимания моей сестры.
– Что там еще случилось? – сварливо спросила она, отставляя свою чашку.
– Ну, знаешь ли! – пробормотал Джо, укоризненно качая головой. – Пип, дружок, ты себе этак и повредить можешь. Он где-нибудь застрянет. Ты ведь не прожевал его, Пип.
– Что еще случилось? – повторила сестра, повысив голос.
– Я тебе советую, Пип, – продолжал ошеломленный Джо, – ты покашляй, может, хоть немножко да выскочит. Ты не смотри, что это некрасиво, ведь здоровье-то важнее.
Тут сестра моя совсем взбеленилась. Она налетела на Джо, схватила его за бакенбарды и стала колотить головой об стену, а я виновато взирал на это из своего угла.
– Теперь ты, может быть, скажешь мне, что случилось, боров ты пучеглазый, – выговорила она, переводя дух.
Джо рассеянно посмотрел на нее, потом так же рассеянно откусил от своего ломтя и опять уставился на меня.
– Ты ведь знаешь, Пип, – торжественно произнес он, засунув хлеб за щеку и таким таинственным тоном, словно, кроме нас, в комнате никого не было, – мы с тобой друзья, и не стал бы я никогда тебя выдавать. Но чтобы так… – он отодвинул свой стул, посмотрел на пол, потом опять перевел глаза на меня, – чтобы враз проглотить целый ломоть…
– Опять глотает не прожевав? – крикнула сестра.
– Ты пойми, дружок, – сказал Джо, глядя не на миссис Джо, а на меня и все еще держа свой кусок за щекой, – я в твоем возрасте и сам так озорничал и много мальчишек видел, которые этакие штуки выкидывали; но такого я сроду не запомню, Пип, и счастье еще, что ты жив остался.
Сестра коршуном налетела на меня и за волосы вытащила из угла, ограничившись зловещими словами: «Открой рот».
В те дни какой-то злодей-доктор воскресил репутацию дегтярной воды как лучшего средства от всех болезней, и миссис Джо всегда держала ее про запас на полке буфета, твердо веря, что ее лечебные свойства вполне соответствуют тошнотворному вкусу. Этот целительный эликсир давали мне в таких количествах, что, боюсь, порою от меня несло дегтем, как от нового забора. В тот вечер, ввиду серьезности заболевания, дегтярной воды потребовалась целая пинта, каковую в меня и влили, для чего миссис Джо зажала мою голову под мышкой, словно в тисках, Джо отделался половинной дозой, которую его, однако, заставили проглотить (к великому его расстройству, – он размышлял о чем-то у огня, медленно дожевывая хлеб), потому что его «схватило». Судя по собственному опыту, могу предположить, что схватило его не до приема лекарства, а после.
Укоры совести тяжелы и для взрослого и для ребенка: когда же у ребенка к одному тайному бремени прибавляется еще и другое, спрятанное в штанине, это – могу засвидетельствовать – поистине суровое испытание. От греховной мысли, что я намерен обокрасть миссис Джо (что я намерен обокрасть самого Джо, мне и в голову не приходило, потому что я никогда не считал его хозяином в доме), а также от необходимости и сидя и на ходу все время придерживать рукою хлеб, я едва не лишился рассудка. А когда угли в очаге разгорались и вспыхивали от ветра, налетавшего с болот, мне чудился за дверью голос человека с цепью на ноге, который связал меня страшной клятвой и теперь говорил, что не может и не хочет голодать до утра, а подавай ему есть сейчас же. Беспокоил меня и его приятель, так жаждавший моей крови, – а вдруг у него не хватит терпения, или же он по ошибке решит, что может угоститься моим сердцем и печенкой не завтра, а уже сегодня. Да, если у кого-нибудь волосы вставали дыбом от ужаса, так, наверно, у меня в тот вечер. Но, может, это только так говорится?
Дело было в сочельник, и меня заставили от семи до восьми, по часам, месить скалкой рождественский пудинг. Я попробовал месить с грузом на ноге (при этом лишний раз вспомнив про груз на ноге того человека), но от каждого моего движения хлеб неудержимо стремился выскочить наружу. К счастью, мне удалось под каким-то предлогом ускользнуть из кухни и спрятать его у себя в каморке под крышей.
– Что это? – спросил я, когда, покончив с пудингом, сел у огня погреться, пока меня не погнали спать. – Это пушка стреляет, Джо?
– Угу, – ответил Джо. – Опять арестант дал тягу.
– Что ты сказал, Джо?
Миссис Джо, всегда предпочитавшая сама давать объяснения, отчеканила: «Сбежал. Утек», – так же безапелляционно, как поила меня дегтярной водой.
Видя, что миссис Джо снова склонилась над своим рукоделием, я беззвучно, одними губами, спросил у Джо: «Что такое арестант?», а он, тоже одними губами, произнес в ответ длинную фразу, из которой я разобрал только одно слово – Пип.
Глава I
Фамилия моего отца была Пиррип, мне дали при крещении имя Филип, а так как из того и другого мой младенческий язык не мог слепить ничего более внятного, чем Пип, то я называл себя Пипом, а потом и все меня стали так называть.
О том, что отец мой носил фамилию Пиррип, мне достоверно известно из надписи на его могильной плите, а также со слов моей сестры миссис Джо Гарджери, которая вышла замуж за кузнеца. Оттого, что я никогда не видел ни отца, ни матери, ни каких-либо их портретов (о фотографии в те времена и не слыхивали), первое представление о родителях странным образом связалось у меня с их могильными плитами. По форме букв на могиле отца я почему-то решил, что он был плотный и широкоплечий, смуглый, с черными курчавыми волосами. Надпись «А также Джорджиана, супруга вышереченного» вызывала в моем детском воображении образ матери - хилой, веснушчатой женщины. Аккуратно расположенные в ряд возле их могилы пять узеньких каменных надгробий, каждое фута в полтора длиной, под которыми покоились пять моих маленьких братцев, рано отказавшихся от попыток уцелеть во всеобщей борьбе, породили во мне твердую уверенность, что все они появились на свет, лежа навзничь и спрятав руки в карманы штанишек, откуда и не вынимали их за все время своего пребывания на земле.
Мы жили в болотистом крае близ большой реки, в двадцати милях от ее впадения в море. Вероятно, свое первое сознательное впечатление от окружающего меня широкого мира я получил в один памятный зимний день, уже под вечер. Именно тогда мне впервые стало ясно, что это унылое место, обнесенное оградой и густо заросшее крапивой, - кладбище; что Филип Пиррип, житель сего прихода, а также Джорджиана, супруга вышереченного, умерли и похоронены; что малолетние сыновья их, младенцы Александер, Бартоломью, Абраам, Тобиас и Роджер, тоже умерли и похоронены; что плоская темная даль за оградой, вся изрезанная дамбами, плотинами и шлюзами, среди которых кое-где пасется скот, - это болота; что замыкающая их свинцовая полоска - река; далекое логово, где родится свирепый ветер, - море; а маленькое дрожащее существо, что затерялось среди всего этого и плачет от страха, - Пип.
- А ну, замолчи! - раздался грозный окрик, и среди могил, возле паперти, внезапно вырос человек. - Не ори, чертенок, не то я тебе горло перережу!
Страшный человек в грубой серой одежде, с тяжелой цепью на ноге! Человек без шапки, в разбитых башмаках, голова обвязана какой-то тряпкой. Человек, который, как видно, мок в воде и полз по грязи, сбивал и ранил себе ноги о камни, которого жгла крапива и рвал терновник! Он хромал и трясся, таращил глаза и хрипел и вдруг, громко стуча зубами, схватил меня за подбородок.
- Ой, не режьте меня, сэр! - в ужасе взмолился я. - Пожалуйста, сэр, не надо!
- Как тебя звать? - спросил человек. - Ну, живо!
- Пип, сэр.
- Как, как? - переспросил человек, сверля меня глазами. - Повтори.
- Пип. Пип, сэр.
- Где ты живешь? - спросил человек. - Покажи!
Я указал пальцем туда, где на плоской прибрежной низине, в доброй миле от церкви, приютилась среди ольхи и ветел наша деревня.
Посмотрев на меня с минуту, человек перевернул меня вниз головой и вытряс мои карманы. В них ничего не было, кроме куска хлеба. Когда церковь стала на место, - а он был до того ловкий и сильный, что разом опрокинул ее вверх тормашками, так что колокольня очутилась у меня под ногами, - так вот, когда церковь стала на место, оказалось, что я сижу на высоком могильном камне, а он пожирает мой хлеб.
- Ух ты, щенок, - сказал человек, облизываясь. - Надо же, какие толстые щеки!
Возможно, что они и правда были толстые, хотя я в ту пору был невелик для своих лет и не отличался крепким сложением.
- Так бы вот и съел их, - сказал человек и яростно мотнул головой, - а может, черт подери, я и взаправду их съем.
Я очень серьезно его попросил не делать этого и крепче ухватился за могильный камень, на который он меня посадил, - отчасти для того, чтобы не свалиться, отчасти для того, чтобы сдержать слезы.
- Слышь ты, - сказал человек. - Где твоя мать?
- Здесь, сэр, - сказал я.
Он вздрогнул и кинулся было бежать, потом, остановившись, оглянулся через плечо.
- Вот здесь, сэр, - робко пояснил я. - «Также Джорджиана». Это моя мать.
- А-а, - сказал он, возвращаясь. - А это, рядом с матерью, твой отец?
- Да, сэр, - сказал я. - Он тоже здесь: «Житель сего прихода».
- Так, - протянул он и помолчал. - С кем же ты живешь, или, вернее сказать, с кем жил, потому что я не решил еще, оставить тебя в живых или нет.
- С сестрой, сэр. Миссис Джо Гарджери. Она жена кузнеца, сэр.
- Кузнеца, говоришь? - переспросил он. И посмотрел на свою ногу.
Он несколько раз переводил хмурый взгляд со своей ноги на меня и обратно, потом подошел ко мне вплотную, взял за плечи и запрокинул назад сколько мог дальше, так что его глаза испытующе глядели на меня сверху вниз, а мои растерянно глядели на него снизу вверх.
- Теперь слушай меня, - сказал он, - и помни, что я еще не решил, оставить тебя в живых или нет. Что такое подпилок, ты знаешь?
- Да, сэр.
- А что такое жратва, знаешь?
- Да, сэр.
После каждого вопроса он легонько встряхивал меня, чтобы я лучше чувствовал грозящую мне опасность и полную свою беспомощность.
- Ты мне достанешь подпилок. - Он тряхнул меня. - И достанешь жратвы. - Он снова тряхнул меня. - И принесешь все сюда. - Он снова тряхнул меня. - Не то я вырву у тебя сердце с печенкой. - Он снова тряхнул меня.
Я был до смерти перепуган, и голова у меня так кружилась, что я вцепился в него обеими руками и сказал:
- Пожалуйста, сэр, не трясите меня, тогда меня, может, не будет тошнить и я лучше пойму.
Он так запрокинул меня назад, что церковь перескочила через свою флюгарку. Потом выпрямил одним рывком и, все еще держа за плечи, заговорил страшнее прежнего:
- Завтра чуть свет ты принесешь мне подпилок и жратвы. Вон туда, к старой батарее. Если принесешь, и никому ни слова не скажешь, и виду не подашь, что встретил меня или кого другого, тогда, так и быть, живи. А не принесешь или отступишь от моих слов хоть вот на столько, тогда вырвут у тебя сердце с печенкой, зажарят и съедят. И ты не думай, что мне некому помочь. У меня тут спрятан один приятель, так я по сравнению с ним просто ангел. Этот мой приятель слышит все, что я тебе говорю. У этого моего приятеля свой секрет есть, как добраться до мальчишки, и до сердца его, и до печенки. Мальчишке от него не спрятаться, пусть лучше и не пробует. Мальчишка и дверь запрет, и в постель залезет, и с головой одеялом укроется, и будет думать, что вот, мол, ему тепло и хорошо и никто его не тронет, а мой приятель тихонько к нему подберется, да и зарежет!.. Мне и сейчас-то, знаешь, как трудно сделать, чтобы он на тебя не бросился. Я его еле держу, до того ему не терпится тебя сцапать. Ну, что ты теперь скажешь?
Я сказал, что достану ему подпилок, и еды достану, сколько найдется, и принесу на батарею, рано утром.
- Повтори за мной: «Разрази меня бог, если вру», - сказал человек.
Я повторил, и он снял меня с камня.
- А теперь, - сказал он, - не забудь, что обещал, и про того моего приятеля не забудь, и беги домой.
- П-покойной ночи, сэр, - пролепетал я.
- Покойной! - сказал он, окидывая взглядом холодную мокрую равнину. - Где уж тут! В лягушку бы, что ли, превратиться. Либо в угря.
Он крепко обхватил обеими руками свое дрожащее тело, словно опасаясь, что оно развалится, и заковылял к низкой церковной ограде. Он продирался сквозь крапиву, сквозь репейник, окаймлявший зеленые холмики, а детскому моему воображению представлялось, что он увертывается от мертвецов, которые бесшумно протягивают руки из могил, чтобы схватить его и утащить к себе, под землю.
Он дошел до низкой церковной ограды, тяжело перелез через нее, - видно было, что ноги у него затекли и онемели, - а потом оглянулся на меня. Тогда я повернул к дому и пустился наутек. Но, пробежав немного, я оглянулся: он шел к реке, все так же обхватив себя за плечи и осторожно ступая сбитыми ногами между камней, набросанных на болотах, чтобы можно было проходить по ним после затяжных дождей или во время прилива.
Я смотрел ему вслед: болота тянулись передо мною длинной черной полосой; и река за ними тоже тянулась полосой, только поуже и посветлее; а в небе длинные кроваво-красные полосы перемежались с густо-черными. На берегу реки глаз мой едва различал единственные во всем ландшафте два черных предмета, устремленных вверх: маяк, по которому держали курс корабли, - очень безобразный, если подойти к нему поближе, словно бочка, надетая на шест; и виселицу с обрывками цепей, на которой некогда был повешен пират. Человек ковылял прямо к виселице, словно тот самый пират воскрес из мертвых и, прогулявшись, теперь возвращался, чтобы снова прицепить себя на старое место. Мысль эта привела меня в содрогание; заметив, что коровы подняли головы и задумчиво смотрят ему вслед, я спросил себя, не кажется ли им то же самое. Я огляделся, ища глазами кровожадного приятеля моего незнакомца, но ничего подозрительного не обнаружил. Однако страх снова овладел мною, и я, уже не останавливаясь больше, побежал домой.
Краткое содержание
Роман Чарльза Диккенса "Большие надежды" рассказывает нам историю мальчика Пипа.
Пип воспитывается родной сестрой, которая его не любит и содержит в строгости. Так же она обращается и с мужем Джо Гарджери. Семья является самой обычной, совершенно небогатой: Джо работает кузнецом, сестра ведет домашнее хозяйство. К Пипу сердечно относится только Джо. Однажды во время посещения кладбища, где похоронены родители Пипа, Пип встречает беглого арестанта, который просит его принести еды и пилу, чтобы снять кандалы. Пип сильно испугался, но выполнил просьбу, украв еду из кладовой сестры. Вскоре сбежавшие преступники (их было 2) были пойманы, а Пип и Джо участвовали в их поиске из любопытства.
Один из дальних родственников Джо, мистер Памблчук, персона недалекая и не блиставшая умом, порекомендовал Пипа богатой, но эксцентричной мисс Хэвишем. Мисс Хэвишем проводила все свое время в своем доме, оплакивая свою несостоявшуюся свадьбу (ее влюбил в себя, обобрал и бросил мошенник Компесон, по иронии судьбы - один из двух сбежавших каторжников). Пип ей нужен был, чтобы развлекать ее. Он стал к ней ходить и играть с ее воспитанницей Эстеллой, молодой, красивой и надменной девушкой, усыновленной мисс Хэвишем очень давно. Пип не знал, зачем он это делает, но продолжал приходить к мисс Хэвишем. Спустя несколько месяцев, мисс Хэвишем помогла устроить Пипа подмастерьем к Джо, подарив Джо существенную сумму денег за обучение Пипа. Так Пип стал учиться ремеслу кузнеца, которое он когда-то любил, но теперь, когда он познакомился с Эстеллой, оно казалось ему грубым и неприятным. Пип страстно захотел стать джентльменом, для чего начал учится грамоте у местной деревенской девушки Бидди (она была в него тайно влюблена).
Однажды, когда Пип был в городе, на его сестру напали, и она стала инвалидом (Пип подозревал наемного работника Джо Орлика, который незадолго до этого поругался с сестрой). Уклад жизни семьи изменился, к ним переехала Бидди, чтобы ухаживать за сестрой Пипа. Тем временем на Пипа обрушилась неожиданная, но приятная новость: некий незнакомец пожелал оставить ему много денег, чтобы он смог стать джентльменом. Пип думал, что это сделала мисс Хэвишем, но условиями соглашения было строго запрещено пытаться узнать, кто этот незнакомец. У Пипа появился опекун-распорядитель мистер Джеггерс. Он берет на себя ведение дел Пипа. Пип переезжает в Лондон и выбирает наставников Мэтью Покета, родственника мисс Хэвишем, который не желает лебезить перед ней ради ее денег. Пип начинает жить вместе с сыном Мэтью Гербертом, с кем он однажды подрался, когда посещал мисс Хэвишем в первый раз.
Пип учится, осваивает хорошие манеры. Родной дом он не навещает, так как считает, что это неподобающее для него общество. К мисс Хэвишем возвращается Эстелла, которая училась за границей. Пип влюбляется в нее. Так проходит несколько лет: Пип живет в Лондоне на широкую ногу, делает долги, общается с Гербертом, берет уроки у его отца. К Джо Пип не съездил ни разу за все это время. Такой шанс ему представился только в связи со смертью сестры, он едет на похороны и обещает навещать Джо часто, но не делает этого ни разу.
Вскоре Пип выясняет, кто был его покровителем: к его большому удивлению им оказался тот самый беглый каторжник Абель Мэгвич, которому он когда-то принес еду, украв ее дома. Этот человек, как оказалось, был причастен к несчастью мисс Хэвишем, именно его подельник Компесон влюбил ее в себя, выманил много денег и бросил перед самой свадьбой (мисс Хэвишем так и не оправилась от этого всю жизнь). Абель решил во что бы то ни стало отблагодарить Пипа за доброту и сделать из него джентльмена. Это надломило Пипа, так как Абель был ему неприятен, а также Пип был вынужден расстаться с надеждой быть вместе с Эстеллой, ведь, он думал, что его покровителем была мисс Хэвишем, и что она уготовила ему Эстеллу.
Эстеллу Пип тоже теряет, так как она выходит замуж за ненавистного Пипу человека. Пип пытается спасти Абеля Мэгвича от виселицы, так как тот вернулся в Англию незаконно - много лет назад он был выслан без права возвращения. На новой родине он очень преуспел, заработал много денег, часть из которых он пересылал опекуну Пипа. Сейчас же он решил навсегда переселиться в Лондон и смотреть, как ПИп тратить его деньги "как настоящий джентльмен".
Пип обнаруживает, что отсутствие Абеля Мэгвича на его новой родине было замечено, и что его начали искать в Лондоне. За собой он также подозревает слежку. Пип начинает выжидать момент, чтобы организовать бегство Абеля в другую страну. Он также идет к мисс Хэвишем, чтобы тайно устроить бизнес Герберта (мисс Хэвишем должна была оплатить за него долю в фирме). Мисс Хэвишем, сильно изменившаяся из-за того, что воспитала Эстеллу бесчувственной, согласилась внести долю за Герберта. Уходя от мисс Хэвишем, Пип увидел, как ее платье вспыхнуло от камина. Он спасает ей жизнь, но не возвращает ей желания жить.
Пип и Герберт готовятся к бегству Абеля заграницу. В это же время Пипа заманивает в ловушку его давний враг Орлик (бывший подмастерье Джо), именно он, как выяснилось, ударил сестру Пипа (жену Джо) и превратил ее в инвалида. Орлик хочет убить Пипа, так как ненавидит его с тех пор, как Пип был мальчиком. К счастью для Пипа, его спасает Герберт. Через несколько дней Пип начинает претворять в реальность план побега Абеля, они хотят уплыть по реке на лодке, чтобы сесть на пароход, идущий за границу. Побег не удается, так как старый враг Абеля Компесон (его бывший подельник) сдал его властям. Абеля арестовывают, но перед этим Абель топит Компесона и получает смертельные травмы в борьбе.
Абеля судят и присуждают к высшей мере наказания. Все время с ним был рядом Пип. Незодолго до приведения приговора в исполнение Абель умирает. Незадолго до смерти Пип сообщает Абелю, что Эстелла является его дочерью (от экономки Джеггерса). Пип заболевает и проводит в беспамятстве и болезни достаточно долгое время. Заботу о нем вновь берет Джо, который платит за него его долги, спасая тем самым от долговой тюрьмы. За это время умирает мисс Хэвишем, все оставив Эстелле (незадолго до смерти они оставила большую сумму денег также для Мэтьи Покета, "по рекомендации Пипа". После того, как Пип выздоровел, Джо уезжает. Пип едет за ним и узнает, что Бидди вышла замуж за Джо. Пип просит у них за все прощения и покидает их на много лет, став клерком в конторе Герберта и переехав за границу. Через 11 лет Пип возвращается в родные края, навещает Бидди и Джо и видит, что у них есть дети, сын и дочь, и сына зовут Пип, в его честь. Пип идет на развалины дома мисс Хэвишем и встречает там Эстеллу, которая не была счастлива в браке (ее муж умер). Они, наконец, становятся друзьями.
Смысл
В романе "Большие надежды" Диккенса показывается, как Пип постепенно теряет все свои надежды, все они идут прахом: и желание стать джентльменом, и желание жениться на Эстелле, и желание сохранить добрые отношения с Джо и Бидди, и желание спасти Абеля. Все разрушается. А Пип, израненный морально, продолжает жить дальше.
В "Больших надеждах" Диккенса показывается, как Пип мечется между своим старым кругом и между тем кругом, где он хотел бы быть. В итоге он стал чужим в своем старом кругу и не вошел в новый. При этом растерял почти все ценное, что у него было. Хорошим уроком для Пипа было то, что он увидел, как честно и искренне живут простые труженики, в то время как представители "высшего" класса тратят свое время в праздности и бессмысленности. Оставаясь прямым и честным человеком, Пип не смог почувствовать себя своим в их тесном кругу.
Вывод
Книга "Большие надежды" Диккенса читалась с переменным успехом: временами легко, временами сложно. Скорее понравилось, поэтому и Вам
посоветую "Большие надежды" Диккенса читать
!