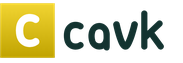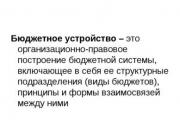Детские сказки онлайн. «Дедушка Мазай и зайцы». Сказка в стихотворной форме Николая Некрасова
Костромская деревня Спас-вежи
Стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы»
В июне 1870 года Некрасов впервые прибыл в Ярославль на поезде (железнодорожное движение от Москвы до Ярославля открылось в феврале 1870 г.). В первый раз вместе с ним в приехала его гражданская жена Зинаида Николаевна, с которой поэт сошелся недавно.
По мнению А. Ф. Тарасова, Некрасов приехал в Карабиху в середине июня384 , но, вероятнее, это случилось на рубеже второй и третьей декад месяца*** .
Вскоре после приезда в Карабиху Некрасов написал едва ли не самое знаменитое своё стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы», которое сразу послал М. Е. Салтыкову-Щедрину в его подмосковную усадьбу Витенево. Уже 17 июля 1870 года тот ответил: «Стихи ваши прелестны»385 . Следовательно, стихотворение написано примерно в период между 25 июня и 10 июля 1870 года (а опубликовано оно было в январском номере «Отечественных записок» за 1871 г.).
К сожалению, стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы» практически не изучалось с точки зрения истории его возникновения. А. Ф. Тарасов полагает, что летом 1870 года вместе с Зинаидой Николаевной Некрасов «через Грешнево (...) отправился в костромские места»386 . Подтверждением этого, по его мнению, служит то, что наброски стихотворения «Как празднуют трусу», где говорится о посещении поэтом Грешнева («Утром мы наше село посещали, где я родился и взрос»), «находятся на обороте листа с черновыми набросками “Дедушки Мазая...” (II, 732)»387 . А. Ф. Тарасов предполагает, что в 1870 году Некрасов с Зиной посетил и Шоду. Выше уже писалось, что мы сомневаемся в приезде поэта в 1870 году в Шоду: сын Гаврилы Яковлевича, Иван Гаврилович, в своих рассказах, наверняка, упомянул бы, что однажды Некрасов посетил Шоду с женой. Сомнительным нам кажется и сама поездка Некрасова «в костромские места» летом 1870 г. Доказательств тому, что Некрасов с Зинаидой Николаевной тогда ездили дальше Грешнева, нет. По-видимому, толчком к написанию «Деда Мазая...» послужили другие обстоятельства (о них чуть ниже).
Нам неизвестно, когда и как Некрасов познакомился с прототипом своего Мазая. Однако кое-какие данные на этот счет есть. В Пушкинском доме сохранился листок с черновыми заметками Некрасова, на котором сделаны следующие записи: «Дедушка Мазай и зайцы» и «Заяц сер как онуча»388 . М. В. Теплинский предположил, что эти заметки относятся к периоду между 1866 и 1870 гг.389 О записи «Дедушка Мазай и зайцы» исследователь заметил: «Название известного стихотворения Некрасова, написанного в 1870 году. Мысль о стихотворении и название его могли зародиться у Некрасова и раньше, что подтверждается следующими соображениями. Упоминаемая в стихотворении деревня Малые Вежи находится в той же Мисковской волости Костромской губернии, где Некрасов охотился с Гаврилой, которому посвятил “Коробейников” (1861). Поэт охотился в этих местах в начале 60-х годов, и именно тогда у него мог возникнуть замысел стихотворения (...)»390 .
В. Н. Осокин предположил, что дедушка Мазай фигурирует у Некрасова не только в стихотворении о зайцах. По его предположению, рассказ Мазая положен и в основу стихотворения «Пчелы» (1867 г.), представляющего собой рассказ неназванного по имени старика-пасечника. По мнению В. Н. Осокина, старик-пасечник и дед Мазай – одно и то же лицо. «К этому выводу приходишь, – пишет он, – сличая язык деда Мазая с речью старика-пасечника из “Пчел”. Пасечник – это дед Мазай»391 . С данным предположением нельзя не согласиться (подробнее об этом чуть ниже). Стихотворение «Пчелы» датировано 15 марта 1867 года и, следовательно, мы можем предположить, что Некрасов познакомился с Мазаем не позднее лета 1866 г.
Помимо «Дедушки Мазая и зайцев», деревню Вёжи, в которой жил Мазай, Некрасов упомянул в черновиках поэмы «Кому на Руси жить хорошо», где говорится:
В Вежах в базарный день (III, 560).
Название Вёжи слишком редкое, чтобы можно было усомниться, что имеется в виду именно та самая деревня, где жил Мазай. Однако это упоминание нам ничего не дает. Вёжи упомянуты в черновиках последней части поэмы «Пир на весь мир», над которой поэт работал в 1876-1877 гг., т. е. спустя 6-7 лет после написания стихотворения о Мазае. Таким образом, Некрасов, скорее всего, познакомился с прототипом дедушки Мазая в 1865 или 1866 году (в 1864 году Некрасов ездил за границу, и в Карабиху не приезжал) и тогда же услышал от него рассказ, как он спасал в весенний разлив зайцев. Почему же стихотворение о дедушке Мазае было написано только в 1870 году? Может быть, как полагает А. Ф. Тарасов, поэт посетил в этом году Вёжи, еще раз встретился с прототипом Мазая, и, вспомнив историю про зайцев, написал своё знаменитое стихотворение? Однако, скорее всего, дело обстояло иначе. Некрасов, судя по всему, давно собирался написать стихотворение о Мазае, но, по-видимому, решающим толчком к его написанию послужил замысел М. Е. Салтыкова-Щедрина выпустить книжку для детей, состоящую из его рассказов и стихов Некрасова392 (почему оконченное стихотворение поэт сразу и послал ему). Судя по всему, именно этому оставшемуся неосуществлённым замыслу мы и обязаны появлением стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы». Как знать, если бы не М. Е. Салтыков-Щедрин, в оставшиеся несколько лет жизни у Некрасова до «Дедушки Мазая...» руки, может быть, так и не дошли.
Зарецкий край – земля дедушки Мазая
Если Гаврила Яковлевич Захаров жил на севере Мисковской волости, то благодаря стихотворению о дедушке Мазае в русскую литературу вошла южная часть этой волости, составляющая значительную часть Костромского Заречья. Заречьем (Зарецким краем, Зарецкой стороной) называлась западная часть Костромского уезда, лежащая за рекой Костромой, которую местные жители издавна (чтобы не путать с одноименным городом) чаще называли «просто Река»393 . Около 10 тысяч лет тому назад после отступления последнего ледника здесь, на низменных пространствах между будущими городами Костромой и Ярославлем, образовалось огромное озеро, послужившее одним из источников возникновения великой водной артерии, которую мы называем Волгой. Постепенно озеро исчезло, оставив после себя низменный край с множеством озер, рек и болот, о котором геолог А. А. Красюк писал в начале XX в.: «...оригинальная местность, выделяющаяся своим своеобразием не только в районе Костромского края, но и всего Верхнего Поволжья (...)»394 .
Исторически Костромское Заречье делилось на две неравные части: большую – «монастырщину» и меньшую – «барщину», названия которых отражали историю края. С XV-XVI веков значительная часть Заречья принадлежала Ипатьевскому монастырю, находящемуся у впадения в Волгу реки Костромы, а с конца XVI века и московскому Чудову монастырю (последний находился в Московском Кремле). После секуляризационной реформы 1764 года местные крестьяне из монастырских стали государственными и не знали власти помещиков (кроме района с. Петрилова). Однако по традиции вплоть до начала XX века селения, принадлежавшие некогда Чудову и Ипатьевскому монастырям, назывались «монастырщиной»* (в местном произношении – «монастыршиной»), а район Петрилова – «барщиной» («баршиной»)397** . Деревня Вёжи, где жил дед Мазай, относилась к «монастырщине».
Главная особенность низменного Зарецкого края состояла в том, что в весеннее половодье оно заливалось водами Волги и Костромы, и разлив держался месяц-полтора. Сохранился ряд описаний тех, кто видел эту по-настоящему величественную картину разлива. А. А. Красюк: «Пойма заливается верст на 30 в ширину и до 70 верст к северу от устья реки Костромы. В апреле всё это пространство представляет собою обширную водную поверхность, которая в бурную погоду представляет весьма внушительную картину. С возвышенного коренного берега на пойму открываются великолепные виды, особенно после спада воды, когда в конце мая все пойменное пространство покрывается ярко-зеленым ковром луговой растительности; среди лугов разбросаны пятна кустарниковых зарослей и дубовых рощ, выделяющихся своею темно-зеленой окраской»399 . А. В. Федосов: «Весной в половодье вся эта местность находится под водой. Волга и Костромка разливаются верст на тридцать пять, затопляя луга, и весело бывает бежать на маленьком пароходике, идущем из Костромы до города Буя, прямо лугами мимо сел Шунги, Самети, Мискова, глядеть, как торчат из воды верхушки полузатопленных лесов, как нехотя подымаются с нее целые косяки пролетных гусей, как звонко свистят крыльями быстрые табунки чирков и шилохвости, как сиротливо, тесною грудой столпились на сваях и оплетённых насыпных холмах потемневшие избы и бани редких деревень и как ярко и празднично светит солнце, блещет вода, голубеет молодое небо и дрожит вдали нагретый весенний воздух»400 . Л. П. Пискунов: «Необыкновенно своеобразен был весенний разлив. Вся низина от Ипатьевского монастыря до с. Глазова на р. Соти в Ярославской области (с юга на север) и от с. Бухалова до п. Прибрежного (с запада на восток) с конца марта по середину мая затоплялась водой. Огромные лесные массивы погружались в воду, оставляя редкие островки суши. Кто бывал в это время в затопленном лесу в солнечный день на лодке, тот всю жизнь не забудет прелести природы, наполненной пением птиц, кряканьем уток, кваканьем лягушек, криками чаек, воркованьем тетёрки, ворочаньем огромных икряных щук в залитых водой кустах и валежнике. Лес чист и прозрачен, листа еще нет. Только на вербах и краснотале появились барашки»401 .
Специфика Зарецкого края сказывалась в особенности планировки его селений и в неповторимом своеобразии местных построек* .
В связи с тем, что местные селенья находились на небольших возвышенностях, где дома из-за тесноты строились впритык друг к другу, хозяйственные строения, в частности бани, ставились на заливаемых весной местах на высоких сваях. В Зарецком крае был и, кажется, единственный в России деревянный храм на сваях – церковь Преображения Господня в с. Спас-Вёжи (Спас).
Регулярные разливы удобряли почву, и на пойменных зареченских лугах заготовлялось огромное количество прекрасного сена** .
Обилие озер, рек и болот способствовало охоте и рыболовству. Большую часть сена, рыбы и дичи местные жители сбывали в находящуюся рядом Кострому.
В самом центре Заречья находились три расположенные вблизи друг от друга селения – с. Спас (Спас-Вёжи), д. Вёжи и д. Ведёрки*** , образовывавшие один церковный приход.
В ходе археологических раскопок, ведшихся с 1995 года на небольшом островке, оставшемся от деревни Вёжи на Костромском водохранилище, выяснилось, что на месте Вёжей люди жили уже в эпоху неолита (V тыс. до н. э.), а постоянно они поселились здесь с XII в.406 О происхождении названия «Вёжи» существуют различные версии. Филолог С. Еремин в 20-е гг. века писал: «Название деревни Вежи народ ведет от рыбачьего шалаша (население здесь исстари рыбаки), хотя существует и другой вариант – “лет 800 тому назад поселился здесь по близости беглой и построил себе вежу для жилья (в окрестности находят разные черепки и кости), потом, когда образовался нанос, постройку перенесли на теперешнее место деревни”»407 . В языке наших предков слово «вежа» имело ряд значений: легкая жилая постройка, крепостная башня, хозяйственная постройка, рыболовное угодье с постройками408 . Учитывая, что, вплоть до затопления деревни в 50-е гг. XX в., рыболовство являлось одним из главных занятий её жителей, вероятнее всего, название селения произошло именно от последнего значения термина «вежа» – рыболовное угодье с постройками.
Деревня Вёжи стояла на левом берегу речки Иледомки* (притоке реки Соть). Эта речка была невелика: она вытекала из Иледомского (Идоломского) озера и через четыре версты впадала в реку Соть. По воспоминаниям местных старожилов, в узких местах ширина Иледомки составляла около 30 метров, в широких – около 70. Иледомка связывала между собой все три стоящие вблизи друг от друга селения: Вёжи стояли на левом её берегу, Ведёрки – на правом, Спас – на левом.
Как и большинство селений в Зарецком крае, деревня Вёжи представляла собой высившийся среди лугов небольшой бугор (или – «гриву», как говорят местные старожилы), плотно застроенный жилыми строениями. В 1858 году в Вежах проживало 56 семей или 368 человек410 . В центре деревни стояла деревянная часовня411 . Нам не удалось найти документальных данных о том, какому святому или празднику она была посвящена. Однако, учитывая, что престольным праздником Вежей являлся Ильин день (20 августа ст. ст.), когда в деревне проходил торжок412 , можно совершенно уверенно сказать, что часовня в Вежах была построена и освящена во имя святого пророка Ильи .
Примечательно, что вплоть до революции Вёжи официально именовались не деревней, а погостом. В списке населенных мест, вышедшем в 1877 г., значится: «Вежи (погост Вежи), д. при рч. Ильдомке»413 – т. е. д. Вёжи (погост Вёжи). В аналогичном издании, опубликованном в 1907 г., сказано: «Вежи пог.»414 , т. е. погост Вежи. В метрических книгах Преображенской церкви села Спас (Спас-Вёжи), которые дошли до нас, начиная с 1879 г., Вёжи ни разу не названы деревней, но всегда – погостом. Л. П. Пискунов свидетельствует: «Наши деревни: Вёжи, Ведёрки и Спас – называли Погостье. Говорили: “Приехали из Погостья”, или: “Пошли в гости в Погостье”»415 . То, что деревня Вёжи вплоть до начала XX века официально числилась как погост, разумеется, не случайно. В Вёжах издавна существовало предание о том, что первоначально церковь хотели строить не в Спасе, а в Вёжах. Л. П. Пискунов пишет: «...существует легенда о месте её строительства. Первоначально её хотели устроить в д. Вёжи; рассказывалось, что навозят лесу-бревен к месту строительства, а через неделю-две этот лес исчезает в одну ночь. И не оставалось никаких следов от его исчезновения, говорили: как по воздуху улетал. И оказывался в Спасе – на месте, где позднее стояла церковь; лес увозили снова в Вёжи. Привозили из леса еще нового, и опять через неделю-две всё исчезало и опять оказывалось на том месте, где была потом построена церковь. Так было раза три, и вежане отступились, сказали: “Это Божье веленье, пусть будет так”»416 . На пустом месте такие легенды, конечно, не рождаются. Возможно, что первоначально в старину храм действительно стоял в Вёжах, а уже потом был перенесен в Спас. По-видимому, в прошлом центр Вежского погоста, собственно погост, находился в будущей деревне Вёжи, а потом, скорее всего, в связи с весенними разливами, храм перенесли в будущее село Спас.
Деревня Вёжи со всех сторон была окружена реками, озерами и болотами. Помимо Идоломки вблизи от деревни протекали реки Соть и Узокса. Соть протекала по Любимскому и Даниловскому уездам Ярославской и Костромскому уезду Костромской губерний, неподалеку от Вёжей, приняв в себя Идоломку, она впадала в Великое озеро* .
Река Узокса вытекала из Великого озера и впадала в реку Кострому немного повыше её устья. Летом жители Вёжей обычно добирались до г. Костромы на лодках по водному пути: Идоломка, Соть, Великое озеро, Узокса, р. Кострома.
В радиусе одной-трех верст вокруг деревни находились озера: Вёжское (Вёжевское), Иледомское, Першино, Семёновское, и Великое, лежавшее на границе Костромской и Ярославской губерний. Все эти озера имели по 1-2 версте в длину и по 0,5 версты в ширину; самым крупным было Великое (более двух с половиной верст в длину, и более версты в ширину)418 .
На таком же расстоянии Вёжи окружали болота: Вежевское, Ечеинское и Остряково. В 6-7 верстах – за Сотью, уже на территории Ярославской губернии, простиралось огромное Засотское болото.
В версте к востоку от Вёжей лежало село Спас-Вёжи (Спас). В документах XVI – XX вв. оно называлось по-разному – Спас под Вёжами** , Спас что в Вёжах, Спас-Вёжи, Спас. К концу XIX века у села было два названия: более старое – Спас-Вёжи и новое – Спас. К началу 70-х гг. XIX века в Спасе было 43 двора420 . Село являлось центром местного прихода, здесь высился стоявший на сваях деревянный Преображенский храм. Когда здесь появился первый храм, неизвестно. Впервые погост Вёжи на речке Иледомке упоминается в 1581 г.421 , когда царь Иван Грозный в числе других селений Зарецкой стороны пожаловал погост Чудову монастырю* . Следует напомнить, что слово «погост» в XVI-XVII вв. еще сохраняло своё древнее значение – центр сельского округа (и одновременно – название этого округа). В документах XVI-XVII вв. Вежинский (Вежский) погост часто упоминается как название сельского округа422 . Приходская церковь на погосте Вёжи впервые упоминается в писцовой книге 1629-1630 гг., когда здесь стояли два деревянных храма – шатровый в честь Преображения Господня (летний) и клетский «с трапезою» во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (зимний). В начале XVIII века шатровый Преображенский храм сгорел. Вскоре «на старом погорелом церковном месте» был построен новый деревянный Преображенский храм, который осенью 1713 года освятил настоятель Ипатьевского монастыря архимандрит Тихон423 . Как, вероятнее всего, и его предшественник, новый Преображенский храм стоял на высоких дубовых сваях (по-местному – «тупиках»). Судя по всему, теплый Зосимо-Савватиевский храм не пострадал от пожара и простоял рядом с Преображенским до второй половины XVIII столетия, когда и он, по-видимому, сгорел. Его не стали восстанавливать: вероятно, он сгорел после 1764 г., когда у Чудова монастыря были отобраны все вотчины, в том числе и погост Вёжи, а у самих прихожан, из монастырских крестьян ставших государственными, сил на строительство нового зимнего храма, видимо, не хватило. Судя по всему, тогда же, т. е. во второй половине в., возле Преображенской церкви построили отдельно стоявшую на дубовых сваях высокую шатровую колокольню (по-видимому, раньше колокольня была пристроена к Зосимо-Савватиевской церкви и сгорела вместе с ней). «О сооружении церкви и ее строителях, – пишет И. В. Маковецкий, – существует много преданий и легенд. В одном предании о постройке церкви упоминаются строившие ее мастера, братья Мулиевы – два знаменитых в Поволжье плотника, родом из Ярославля. Они сами выбрали лес, сами вели его заготовку, а рубили лес они в шести километрах от , вверх по реке Костроме. До сих пор в этом заповедном лесу дорога, что идет от д. Овинцы к реке, называется «тропой Мулиевых». Братья были велики ростом и обладали необыкновенной силой. Они вдвоем поднимали бревно и закатывали его на сруб церкви. В память о работе они вырубили свои фамилии на верхнем венце сруба, под самым коньком церкви. Надпись эту видел плотник Василий Андреевич Новожилов из д. Ведерки 95 лет от роду, обшивавший церковь после пожара в 1876 г. (кроме него никто не решился подняться на такую высоту)» 424 .
Преображенский храм относился к так называемым клетским церквям (от слова «клеть», т. е. сруб). Он состоял из центрального четверика с высокой двускатной кровлей, к которой были прирублены еще два сруба: трапезная (с запада) и пятигранный алтарь (с востока). Крутую кровлю четверика венчала обитая осиновым лемехом главка на небольшом четырехгранном срубе, врезанном в середину конька кровли. С трех сторон церковь окружали висячие галереи. Храм стоял на дубовых сваях трехметровой высоты. Рядом с ним находилась отдельно стоявшая монументальная шатровая колокольня традиционного типа «восьмерик на четверике», увенчанная высоким восьмигранным шатром. Колокольня, как и храм, была поднята над землей на восьми дубовых кряжах-тупиках. Окружали церковь бугорки приходского кладбища с деревянными крестами.
То, что храм стоял в заливаемой в весеннее половодье местности, придавало богослужению в нём неповторимое своеобразие. Как правило, на время разлива приходился праздник Пасхи. В пасхальную ночь люди приезжали в храм на лодках. На лодках же – под звон колоколов, с пением праздничного тропаря, с теплящимися огоньками свечей в руках богомольцев – свершался и традиционный крестный ход в полночь вокруг церкви.
На лодках весной по приходу совершались и крестные ходы. Л. П. Пискунов пишет: «В конце прошлого-го, да и в более ранние времена (старики и родители рассказывали) во время больших подъёмов воды, когда начинало подтоплять некоторые дома, священники организовывали своеобразные крестные ходы – на больших лодках устанавливали иконы-хоругви, и, в руках держа иконы, целая флотилия из нескольких лодок объезжала с молебном вокруг деревень, прося милости Божией, чтоб не сотворилось пожара, бури, мора. Священник стоял в лодке и, размахивая кадилом, пел молитвы, а дьякон, и хористы, и все прихожане подпевали. Так объезжали на лодках вокруг три раза. Потом вылезали из лодок, шли к часовне, которая стояла посреди нашей деревни Вёжи, и там молебен продолжали. Так было и в Ведёрках, Спасе – там тоже стояли посреди деревни часовни. В это время, пока шёл молебен, псаломщик звонил в колокол на колокольне в селе Спасе. В тихую погоду по воде звон колокола был слышен за 10-12 километров»425 .
Не вызывает сомнения, что вся жизнь дедушки Мазая была связана с Преображенским храмом: в нём его крестили, в нём он венчался, здесь состоялось его отпевание, и тут же, на кладбище у стен храма, завершился его земной путь.
В 1855-1865 гг. настоятелем Преображенской церкви в Спас-Вёжах служил священник о. Евлампий Юницкий* , которого дедушка Мазай, конечно, хорошо знал.
В одной версте к северо-востоку от Вёжей находилась д. Ведёрки. На месте Ведёрок люди жили уже в глубокой древности. В 2000 году в результате археологического обследования на острове, оставшемся от деревни, были найдены каменные орудия – наконечники стрел и дротиков, проколки и т. д.428 . Позднее на небольшом холме возникла деревня, которая первоначально называлась «Ведерница»429 . Отчего произошло название деревни, сказать трудно. Ясно, что его корнем является слово «ведро», возможно, такое прозвище носил первопоселенец. Впервые деревня Ведерница упоминается в 1581 г., в жалованной грамоте Ивана Грозного. В начале 70-х гг. XIX века в Ведёрках было 47 дворов430 .
Как известно, Некрасов пишет о деревне Мазая:
Домики в ней на высоких столбах (II, 321).
Исходя из этих слов, в иллюстрациях к стихотворению художники нередко рисуют дома в деревне Мазая на столбах. Однако это не совсем верно. Большинство жилых домов в Вёжах, как и везде, плотно стояли на земле. Правда, как пишет Л. П. Пискунов, к 30-м годам XX века в Спасе, Вёжах и Ведёрках было несколько жилых и общественных строений, находившихся с краю селений, которые стояли на столбах431 . Вполне возможно, что такие дома в Вежах были и в некрасовские времена. Но более всего вежевское «погостье» известно своими банями на сваях, которые, конечно, в первую очередь, и имел в виду Некрасов.
Бани на сваях окружали Спас, Вёжи, Ведёрки и ряд других селений Заречья. В. И. Смирнов, работавший в этих местах в 1926 г., писал: «Вблизи селений (200-250 метров) были раскиданы на лугу, там, где посуше, кучками свайные бани. Издали такая группа бань, раскиданная без всякого порядка и плана, на покривившихся, расставленных, как будто на шагающих ногах, сваях, представляет странную картину избушек на курьих ножках»432 . Архитектор И. В. Маковецкий, побывавший здесь в 1949 г., оставил яркое описание бань у Спаса. «Картина, которая открылась перед нашими глазами, – писал он, – когда мы подъехали к дер. Спас* , была действительно необычайная и на человека, впервые попавшего в эту местность, производила сильное впечатление. Среди плакучих ив причудливой формы и необыкновенных размеров, на уровне птичьих гнезд, на высоких четырехметровых столбах, напоминающих скорее сухие стволы деревьев, повисли в воздухе рубленые избушки с маленькими волоковыми окошками, со спускающимися на землю узкими и длинными лестницами, по которым быстро поднимались жители с ведрами воды, связками хвороста, а наверху, на помосте, сидели, болтая ногами, ребятишки и пробовали достать длинной веткой проходящее под ними шумное стадо. Это были бани, живописно раскинувшиеся большими группами вокруг деревни и оживавшие каждый субботний вечер, когда их начинали топить»433 . В 1926 году в Вёжах было 30 свайных бань434 .
Особенностью Костромского Заречья являлось то, что предприимчивые местные крестьяне занимались выращиванием хмеля, приносившего им немалый доход. Некрасов пишет о деревне Мазая:
Летом её убирая красиво,
Исстари хмель в ней родится на диво... (II, 321).
Из-за весенних разливов жители Заречья не могли заниматься хлебопашеством и поэтому были вынуждены искать другие средства для существования. «Условия почвы, – писал о. Иаков Нифонтов, – прежде всего заставили обратиться к хмелеводству, которое, будучи развито здесь до значительных размеров, служит не только средством к жизни, но и составляет источник состояния местных крестьян, так что те селения, где развито хмелеводство, отличаются особенным достатком, который не трудно заметить и по их внешней обстановке. Дома в этих селениях большие, просторные, не без претензии на щегольство; одежда жителей не только опрятна, но отчасти богата и роскошна»435 . Когда местные крестьяне стали заниматься хмелеводством, неизвестно. Как полагают, хмелеводство появилось здесь «со времени основания селений. Данными для этой догадки служат самые хмельники. Для ограждения их от бурь и до сих пор существуют еще громадные старые дубы, вязы, березы и осины, расположенные по окраинам хмельников рядами. В таком порядке они не могли вырасти сами, и, очевидно, были посажены; так как теперь, при разведении новых хмельников, их обсаживают всегда деревьями»436 . Говоря о распространении хмеля в Заречье, о. Иаков Нифонтов в 1875 году писал: «В настоящее время хмелеводство распространено только в одной Мисковской волости, – в селах Мискове, Жарках, Куникове, Спас-Вёжи и в деревнях Вёжах, Ведёрках и Овинцах; но в последних хмелеводство не так значительно, как в первых»437 . Во второй половине XIX века хмель из Заречья «большими партиями» отправляли на ярмарки в Рыбинск, Ростов Великий, Бежецк, Весьегонск, Вологду, Грязовец и др.438
В августе, около Малых Вежей,
С старым Мазаем я бил дупелей.
Как-то особенно тихо вдруг стало,
На небе солнце сквозь тучу играло.
Тучка была небольшая на нём,
А разразилась жестоким дождём!
Прямы и светлы, как прутья стальные,
В землю вонзались струи дождевые
С силой стремительной... Я и Мазай,
Мокрые, скрылись в какой-то сарай.
Дети, я вам расскажу про Мазая.
Каждое лето домой приезжая,
Я по неделе гощу у него.
Нравится мне деревенька его:
Летом её убирая красиво,
Исстари хмель в ней родится на диво,
Вся она тонет в зелёных садах;
Домики в ней на высоких столбах
(Всю эту местность вода понимает,
Так что деревня весною всплывает,
Словно Венеция). Старый Мазай
Любит до страсти свой низменный край.
Вдов он, бездетен, имеет лишь внука,
Торной дорогой ходить ему - скука!
За сорок вёрст в Кострому прямиком
Сбегать лесами ему нипочём:
«Лес не дорога: по птице, по зверю
Выпалить можно». - «А леший?» - «Не верю!
Раз в кураже я их звал-поджидал
Целую ночь, - никого не видал!
За день грибов насбираешь корзину,
Ешь мимоходом бруснику, малину;
Вечером пеночка нежно поёт,
Словно как в бочку пустую удод
Ухает; сыч разлетается к ночи,
Рожки точёны, рисованы очи.
Ночью... ну, ночью робел я и сам:
Очень уж тихо в лесу по ночам.
Тихо как в церкви, когда отслужили
Службу и накрепко дверь затворили,
Разве какая сосна заскрипит,
Словно старуха во сне проворчит...»
Дня не проводит Мазай без охоты.
Жил бы он славно, не знал бы заботы,
Кабы не стали глаза изменять:
Начал частенько Мазай пуделять.
Впрочем, в отчаянье он не приходит:
Выпалит дедушка, - заяц уходит,
Дедушка пальцем косому грозит:
«Врёшь - упадёшь!» - добродушно кричит.
Знает он много рассказов забавных
Про деревенских охотников славных:
Кузя сломал у ружьишка курок,
Спичек таскает с собой коробок,
Сядет за кустом - тетерю подманит,
Спичку к затравке приложит - и грянет!
Ходит с ружьишком другой зверолов,
Носит с собою горшок угольков.
«Что ты таскаешь горшок с угольками?»
- «Больно, родимый, я зябок руками;
Ежели зайца теперь сослежу,
Прежде я сяду, ружьё положу,
Над уголёчками руки погрею,
Да уж потом и палю по злодею!» -
«Вот так охотник!» - Мазай прибавлял.
Я, признаюсь, от души хохотал.
Впрочем, милей анекдотов крестьянских
(Чем они хуже, однако, дворянских?)
Я от Мазая рассказы слыхал.
Дети, для вас я один записал...
Старый Мазай разболтался в сарае:
«В нашем болотистом, низменном крае
Впятеро больше бы дичи велось,
Кабы сетями её не ловили,
Кабы силками её не давили;
Зайцы вот тоже, - их жалко до слёз!
Только весенние воды нахлынут,
И без того они сотнями гинут, -
Нет! ещё мало! бегут мужики,
Ловят, и топят, и бьют их баграми.
Где у них совесть?.. Я раз за дровами
В лодке поехал - их много с реки
К нам в половодье весной нагоняет, -
Еду, ловлю их. Вода прибывает.
Вижу один островок небольшой -
Зайцы на нём собралися гурьбой.
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени в длину.
Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного,
Прочим скомандовал: прыгайте сами!
Прыгнули зайцы мои, - ничего!
Только уселась команда косая,
Весь островочек пропал под водой.
« То-то! - сказал я, - не спорьте со мной!
Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!»
Этак гуторя, плывём в тишине.
Столбик не столбик, зайчишко на пне,
Лапки скрестивши, стоит, горемыка,
Взял и его - тягота невелика!
Только что начал работать веслом,
Глядь, у куста копошится зайчиха -
Еле жива, а толста как купчиха!
Я её, дуру, накрыл зипуном -
Сильно дрожала... Не рано уж было.
Мимо бревно суковатое плыло,
Зайцев с десяток спасалось на нём.
«Взял бы я вас - да потопите лодку!»
Жаль их, однако, да жаль и находку -
Я зацепился багром за сучок
И за собою бревно поволок...
Было потехи у баб, ребятишек,
Как прокатил я деревней зайчишек:
«Глянь-ко: что делает старый Мазай!»
Ладно! любуйся, а нам не мешай!
Мы за деревней в реке очутились.
Тут мои зайчики точно сбесились:
Смотрят, на задние лапы встают,
Лодку качают, грести не дают:
Берег завидели плуты косые,
Озимь, и рощу, и кусты густые!..
К берегу плотно бревно я пригнал,
Лодку причалил - и «с богом!» сказал...
И во весь дух
Пошли зайчишки.
А я им: «У-х!
Живей, зверишки!
Смотри, косой,
Теперь спасайся,
А чур зимой
Не попадайся!
Прицелюсь - бух!
И ляжешь... У-у-у-х!..»
Мигом команда моя разбежалась,
Только на лодке две пары осталось -
Сильно измокли, ослабли; в мешок
Я их поклал - и домой приволок,
За ночь больные мои отогрелись,
Высохли, выспались, плотно наелись;
Вынес я их на лужок; из мешка
Вытряхнул, ухнул - и дали стречка!
Я проводил их всё тем же советом:
«Не попадайся зимой!»
Я их не бью ни весною, ни летом,
Шкура плохая, - линяет косой... »
В августе, около Малых Вежей,
С старым Мазаем я бил дупелей.
Как-то особенно тихо вдруг стало,
На небе солнце сквозь тучу играло.
Тучка была небольшая на нем,
А разразилась жестоким дождем!
Прямы и светлы, как прутья стальные,
В землю вонзались струи дождевые
С силой стремительной… Я и Мазай,
Мокрые, скрылись в какой-то сарай.
Дети, я вам расскажу нро Мазая.
Каждое лето домой приезжая,
Я по неделе гощу у него.
Нравится мне деревенька его:
Летом ее убирая красиво,
Исстари хмель в ней родится на диво,
Вся она тонет в зеленых садах;
Домики в ней на высоких столбах
(Всю эту местность вода понимает,
Так что деревня весною всплывает,
Словно Венеция). Старый Мазай
Любит до страсти свой низменный край.
Вдов он, бездетен, имеет лишь внука,
Торной дорогой ходить ему – скука!
За сорок верст в Кострому прямиком
Сбегать лесами ему нипочем:
«Лес не дорога: по птице, по зверю
Выпалить можно». – А леший? – «Не верю!
Раз в кураже я их звал-поджидал
Целую ночь, – никого не видал!
За день грибов насбираешь корзину,
Ешь мимоходом бруснику, малину;
Вечером пеночка нежно поет,
Словно как в бочку пустую удод
Ухает; сыч разлетается к ночи,
Рожки точены, рисованы очи.
Ночью… ну, ночью робел я и сам:
Очень уж тихо в лесу по ночам.
Тихо как в церкви, когда отслужили
Службу и накрепко дверь затворили,
Разве какая сосна заскрипит,
Словно старуха во сне проворчит…»
Дня не проводит Мазай без охоты.
Жил бы он славно, не знал бы заботы,
Кабы не стали глаза изменять:
Начал частенько Мазай пуделять.
Впрочем, в отчаянье он не приходит:
Выпалит дедушка – заяц уходит,
Дедушка пальцем косому грозит:
»Врешь – упадешь!» – добродушно кричит.
Знает он много рассказов забавных
Про деревенских охотников славных:
Кузя сломал у ружьишка курок,
Спичек таскает с собой коробок,
Сядет за кустом – тетерю подманит,
Спичку к затравке приложит – и грянет!
Ходит с ружьишком другой зверолов,
Носит с собою горшок угольков.
«Что ты таскаешь горшок с угольками?»
– Больно, родимый, я зябок руками;
Ежели зайца теперь сослежу,
Прежде я сяду, ружье положу,
Над уголечками руки погрею,
Да уж потом и палю по злодею! –
«Вот так охотник!» – Мазай прибавлял.
Я, признаюсь, от души хохотал.
Впрочем, милей анекдотов крестьянских
(Чем они хуже, однако, дворянских?)
Я от Мазая рассказы слыхал.
Дети, для вас я один записал…
II
С тарый Мазай разболтался в сарае:
»В нашем болотистом, низменном крае
Впятеро больше бы дичи велось,
Кабы сетями ее не ловили,
Кабы силками ее не давили;
Зайцы вот тоже, – их жалко до слез!
Только весенние воды нахлынут,
И без того они сотнями гинут, –
Нет! еще мало! бегут мужики,
Ловят, и топят, и бьют их баграми.
Где у них совесть?.. Я раз за дровами
В лодке поехал – их много с реки
К нам в половодье весной нагоняет –
Еду, ловлю их. Вода прибывает.
Вижу один островок небольшой –
Зайцы на нем собралися гурьбой.
С каждой минутой вода подбиралась
К бедным зверькам; уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени в длину.
Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного,
Прочим скомандовал: прыгайте сами!
Прыгнули зайцы мои, – ничего!
Только уселась команда косая,
Весь островочек пропал под водой:
…То-то! – сказал я, – не спорьте со мной!
Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!»
Этак гуторя, плывем в тишине.
Столбик не столбик, зайчишко на пне,
Лапки скрестивши, стоит, горемыка,
Взял и его – тягота не велика!
Только что начал работать веслом,
Глядь, у куста копошится зайчиха –
Еле жива, а толста как купчиха!
Я ее, дуру, накрыл зипуном –
Сильно Дрожала… Не рано уж было.
Мимо бревно суковатое плыло,
Сидя, и стоя, и лежа пластом,
Зайцев с десяток спасалось на нем.
…Взял бы я вас – да потопите лодку!»
Жаль их, однако, да жаль и находку –
Я зацепился багром за сучок
И за собою бревно поволок…
Было потехи у баб, ребятишек,
Как прокатил я деревней зайчишек:
Глянь-ко: что делает старый Мазай!»
Ладно! любуйся, а нам не мешай!
Мы за деревней в реке очутились.
Тут мои зайчики точно сбесились:
Смотрят, на задние лапы встают,
Лодку качают, грести не дают:
Берег завидели плуты косые,
Озимь, и рощу, и кусты густые!..
К берегу плотно бревно я пригнал,
Лодку причалил – и «с богом!» сказал…
И во весь дух
Пошли зайчишки.
А я им: ,У-х!
Живей, зверишки!
Смотри, косой,
Теперь спасайся,
А чур зимой
Не попадайся!
Прицелюсь – бух!
И ляжешь… У-у-у-х!..»
Мигом команда моя разбежалась,
Только на лодке две пары осталось –
Сильно измокли, ослабли; в мешок
Я их поклал – и домой приволок.
За ночь больные мои отогрелись,
Высохли, выспались, плотно наелись;
Вынес я их на лужок; из мешка
Вытряхнул, ухнул – и дали стречка!
Я проводил их всё тем же советом:
Не попадайтесь зимой!»
Я их не бью ни весною, ни летом,
Шкура плохая, – линяет косой…»
* * *
Стихотворения
В дороге
«Скучно! скучно!.. Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку!
Песню, что ли, приятель, запой
Про рекрутский набор и разлуку;
Небылицей какой посмеши
Или, что ты видал, расскажи -
Буду, братец, за все благодарен».– Самому мне невесело, барин:
Сокрушила злодейка жена!..
Слышь ты, смолоду, сударь, она
В барском доме была учена
Вместе с барышней разным наукам,
Понимаешь-ста, шить и вязать,
На варгане играть и читать -
Всем дворянским манерам и штукам.
Одевалась не то, что у нас
На селе сарафанницы наши,
А, примерно представить, в атлас;
Ела вдоволь и меду и каши.
Вид вальяжный имела такой,
Хоть бы барыне, слышь ты, природной,
И не то что наш брат крепостной,
Тоись, сватался к ней благородной
(Слышь, учитель-ста врезамшись был,
Баит кучер, Иваныч Торопка), -
Да, знать, счастья ей Бог не судил:
Не нужна-ста в дворянстве холопка!Вышла замуж господская дочь,
Да и в Питер… А справивши свадьбу,
Сам-ат, слышь ты, вернулся в усадьбу,
Захворал и на Троицу в ночь
Отдал Богу господскую душу,
Сиротинкой оставивши Грушу…
Через месяц приехал зятек -
Перебрал по ревизии души
И с запашки ссадил на оброк,
А потом добрался и до Груши.
Знать, она согрубила ему
В чем-нибудь, али напросто тесно
Вместе жить показалось в дому,
Понимаешь-ста, нам неизвестно, -
Воротил он ее на село -
Знай-де место свое ты, мужичка!
Взвыла девка – крутенько пришло:
Белоручка, вишь ты, белоличка!Как на грех, девятнадцатый год
Мне в ту пору случись… посадили
На тягло – да на ней и женили…
Тоись, сколько я нажил хлопот!
Вид такой, понимаешь, суровой…
Ни косить, ни ходить за коровой!..
Грех сказать, чтоб ленива была,
Да, вишь, дело в руках не спорилось!
Как дрова или воду несла,
Как на барщину шла – становилось
Инда жалко подчас… да куды! -
Не утешишь ее и обновкой:
То натерли ей ногу коты,
То, слышь, ей в сарафане неловко.
При чужих и туда и сюда,
А украдкой ревет как шальная…
Погубили ее господа,
А была бы бабенка лихая!На какой-то патрет все глядит
Да читает какую-то книжку…
Инда страх меня, слышь ты, щемит,
Что погубит она и сынишку:
Учит грамоте, моет, стрижет,
Словно барченка, каждый день чешет,
Бить не бьет – бить и мне не дает…
Да недолго пострела потешит!
Слышь, как щепка худа и бледна,
Ходит, тоись, совсем через силу,
В день двух ложек не съест толокна -
Чай, свалим через месяц в могилу…
А с чего?.. Видит Бог, не томил
Я ее безустанной работой…
Одевал и кормил, без пути не бранил,
Уважал, тоись, вот как, с охотой…
А, слышь, бить – так почти не бивал,
Разве только под пьяную руку…«Ну, довольно, ямщик! Разогнал
Ты мою неотвязную скуку!..»
«Еду ли ночью по улице темной…»
Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день -
Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!
Сердце сожмется мучительной думой.
С детства судьба невзлюбила тебя:
Беден и зол был отец твой угрюмый,
Замуж пошла ты – другого любя.
Муж тебе выпал недобрый на долю:
С бешеным нравом, с тяжелой рукой;
Не покорилась – ушла ты на волю,
Да не на радость сошлась и со мной…Помнишь ли день, как, больной и голодный,
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил.
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?
Плакал твой сын, и холодные руки
Ты согревала дыханьем ему.
Он не смолкал – и пронзительно звонок
Был его крик… Становилось темней;
Вдоволь поплакал и умер ребенок…
Бедная! слез безрассудных не лей!
С горя да с голоду завтра мы оба
Так же глубоко и сладко заснем;
Купит хозяин, с проклятьем, три гроба -
Вместе свезут и положат рядком…В разных углах мы сидели угрюмо.
Помню, была ты бледна и слаба,
Зрела в тебе сокровенная дума,
В сердце твоем совершалась борьба.
Я задремал. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу,
И через час принесла торопливо
Гробик ребенку и ужин отцу.
Голод мучительный мы утолили,
В комнате темной зажгли огонек,
Сына одели и в гроб положили…
Случай нас выручил? Бог ли помог?
Ты не спешила печальным признаньем,
Я ничего не спросил,
Только мы оба глядели с рыданьем,
Только угрюм и озлоблен я был…Где ты теперь? С нищетой горемычной
Злая тебя сокрушила борьба?
Или пошла ты дорогой обычной
И роковая свершится судьба?
Кто ж защитит тебя? Все без изъятья
Именем страшным тебя назовут,
Только во мне шевельнутся проклятья -
И бесполезно замрут!..
«Я не люблю иронии твоей…»
Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и нежившим,
А нам с тобой, так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим, -
Нам рано предаваться ей!Пока еще застенчиво и нежно
Свидание продлить желаешь ты,
Пока еще кипят во мне мятежно
Ревнивые тревоги и мечты -
Не торопи развязки неизбежной!И без того она недалека:
Кипим сильней, последней жаждой полны,
Но в сердце тайный холод и тоска…
Так осенью бурливее река,
Но холодней бушующие волны…
«Мы с тобой бестолковые люди…»
Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово.Говори же, когда ты сердита,
Все, что душу волнует и мучит!
Будем, друг мой, сердиться открыто:
Легче мир – и скорее наскучит.Если проза в любви неизбежна,
Так возьмем и с нее долю счастья:
После ссоры так полно, так нежно
Возвращенье любви и участья…
Муза
Нет, Музы ласково поющей и прекрасной
Не помню над собой я песни сладкогласной!
В небесной красоте, неслышимо, как дух,
Слетая с высоты, младенческий мой слух
Она гармонии волшебной не учила,
В пеленках у меня свирели не забыла,
Среди забав моих и отроческих дум
Мечтой неясною не волновала ум
И не явилась вдруг восторженному взору
Подругой любящей в блаженную ту пору,
Когда томительно волнуют нашу кровь
Неразделимые и Муза и Любовь…Но рано надо мной отяготели узы
Другой, неласковой и нелюбимой Музы,
Печальной спутницы печальных бедняков,
Рожденных для труда, страданья и оков, -
Той Музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей,
Которой золото – единственный кумир…
В усладу нового пришельца в Божий мир,
В убогой хижине, пред дымною лучиной,
Согбенная трудом, убитая кручиной,
Она певала мне – и полон был тоской
И вечной жалобой напев ее простой.
Случалось, не стерпев томительного горя,
Вдруг плакала она, моим рыданьям вторя,
Или тревожила младенческий мой сон
Разгульной песнею… Но тот же скорбный стон
Еще пронзительней звучал в разгуле шумном,
Все слышалося в нем в смешении безумном:
Расчеты мелочной и грязной суеты,
И юношеских лет прекрасные мечты,
Погибшая любовь, подавленные слезы,
Проклятья, жалобы, бессильные угрозы.
В порыве ярости, с неправдою людской
Безумная клялась начать упорный бой.Предавшись дикому и мрачному веселью,
Играла бешено моею колыбелью,
Кричала: «Мщение!» – и буйным языком
В сообщники свои звала Господень гром!В душе озлобленной, но любящей и нежной
Непрочен был порыв жестокости мятежной.
Слабея, медленно, томительный недуг
Смирялся, утихал… и выкупалось вдруг
Все буйство дикое страстей и скорби лютой
Одной божественно-прекрасною минутой,
Когда страдалица, поникнув головой,
«Прощай врагам своим!» – шептала надо мной…Так вечно плачущей и непонятной девы
Лелеяли мой слух суровые напевы,
Покуда наконец обычной чередой
Я с нею не вступил в ожесточенный бой.
Но с детства прочного и кровного союза
Со мною разорвать не торопилась Муза:
Чрез бездны темные Насилия и Зла,
Труда и Голода она меня вела -
Почувствовать свои страданья научила
И свету возвестить о них благословила…
Влас
В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас – старик седой.
На груди икона медная;
Просит он на божий храм, -
Весь в веригах, обувь бедная,
На щеке глубокий шрам;Да с железным наконешником
Палка длинная в руке…
Говорят, великим грешником
Был он прежде. В мужике
Бога не было; побоями
В гроб жену свою вогнал;
Промышляющих разбоями,
Конокрадов укрывал;У всего соседства бедного
Скупит хлеб, а в черный год
Не поверит гроша медного,
Втрое с нищего сдерет!
Брал с родного, брал с убогого,
Слыл кащеем-мужиком;
Нрава был крутого, строгого…
Наконец и грянул гром!
Власу худо; кличет знахаря -
Да поможешь ли тому,
Кто снимал рубашку с пахаря,
Крал у нищего суму?
Только пуще всё неможется.
Год прошел – а Влас лежит,
И построить церковь божится,
Если смерти избежит.
Говорят, ему видение
Всё мерещилось в бреду:
Видел света преставление,
Видел грешников в аду;
Мучат бесы их проворные,
Жалит ведьма-егоза.
Ефиопы – видом черные
И как углие глаза,
Крокодилы, змии, скорпии
Припекают, режут, жгут…
Воют грешники в прискорбии,
Цепи ржавые грызут.
Гром глушит их вечным грохотом,
Удушает лютый смрад,
И кружит над ними с хохотом
Черный тигр-шестокрылат.
Те на длинный шест нанизаны,
Те горячий лижут пол…
Там, на хартиях написаны,
Влас грехи свои прочел…
Влас увидел тьму кромешную
И последний дал обет…
Внял Господь – и душу грешную
Воротил на вольный свет.
Роздал Влас свое имение,
Сам остался бос и гол
И сбирать на построение
Храма божьего пошелС той поры мужик скитается
Вот уж скоро тридцать лет,
Подаянием питается -
Строго держит свой обет.Сила вся души великая
В дело божие ушла,
Словно сроду жадность дикая
Непричастна ей была…Полон скорбью неутешною,
Смуглолиц, высок и прям,
Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам.Нет ему пути далекого:
Был у матушки Москвы,
И у Каспия широкого,
И у царственной Невы.Ходит с образом и с книгою,
Сам с собой всё говорит
И железною веригою
Тихо на ходу звенит.Ходит в зимушку студеную,
Ходит в летние жары,
Вызывая Русь крещеную
На посильные дары, -И дают, дают прохожие…
Так из лепты трудовой
Вырастают храмы божии
По лицу земли родной…
«Безвестен я. Я вами не стяжал…»
Безвестен я. Я вами не стяжал
Ни почестей, ни денег, ни похвал,
Стихи мои, – плод жизни несчастливой,
У отдыха похищенных часов,
Сокрытых слез и думы боязливой;
Но вами я не восхвалял глупцов,
Но с подлостью не заключал союза,
Нет! свой венец терновый приняла,
Не дрогнув, обесславленная Муза
И под кнутом без звука умерла.
«Замолкни, Муза мести и печали!..»
Замолкни, Муза мести и печали!
Я сон чужой тревожить не хочу,
Довольно мы с тобою проклинали.
Один я умираю – и молчу.К чему хандрить, оплакивать потери?
Когда б хоть легче было от того!
Мне самому, как скрип тюремной двери,
Противны стоны сердца моего.Всему конец. Ненастьем и грозою
Мой темный путь недаром омрача,
Не просветлеет небо надо мною,
Не бросит в душу теплого луча…Волшебный луч любви и возрожденья!
Я звал тебя – во сне и наяву,
В труде, в борьбе, на рубеже паденья
Я звал тебя, – теперь уж не зову!Той бездны сам я не хотел бы видеть,
Которую ты можешь осветить…
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.
«Внимая ужасам войны…»
Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя…
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна -
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы -
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей…
«В столицах шум, гремят витии…»
В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России -
Там вековая тишина.
Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив…
На Волге
(Детство Валежникова)
1
Не торопись, мой верный пес!
Зачем на грудь ко мне скакать?
Еще успеем мы стрелять.
Ты удивлен, что я прирос
На Волге: целый час стою
Недвижно, хмурюсь и молчу.
Я вспомнил молодость мою
И весь отдаться ей хочу
Здесь на свободе. Я похож
На нищего: вот бедный дом,
Тут, может, подали бы грош.
Но вот другой – богаче: в нем
Авось побольше подадут.
И нищий мимо; между тем
В богатом доме дворник-плут
Не наделил его ничем.
Вот дом еще пышней, но там
Чуть не прогнали по шеям!
И, как нарочно, всё село
Прошел – нигде не повезло!
Пуста, хоть выверни суму.
Тогда вернулся он назад
К убогой хижине – и рад,
Что корку бросили ему;
Бедняк ее, как робкий пес,
Подальше от людей унес
И гложет… Рано пренебрег
Я тем, что было под рукой,
И чуть не детскою ногой
Ступил за отческий порог,
Меня старались удержать
Мои друзья, молила мать,
Мне лепетал любимый лес:
Верь, нет милей родных небес!
Нигде не дышится вольней
Родных лугов, родных полей,
И той же песенкою полн
Был говор этих милых волн.
Но я не верил ничему.
Нет, – говорил я жизни той, -
Ничем не купленный покой
Противен сердцу моему…Быть может, недостало сил,
Или мой труд не нужен был,
Но жизнь напрасно я убил,
И то, о чем дерзал мечтать,
Теперь мне стыдно вспоминать!
Все силы сердца моего
Истратив в медленной борьбе,
Не допросившись ничего
От жизни ближним и себе,
Стучусь я робко у дверей
Убогой юности моей:
– О юность бедная моя!
Прости меня, смирился я!
Не помяни мне дерзких грез,
С какими, бросив край родной,
Я издевался над тобой!
Не помяни мне глупых слез,
Какими плакал я не раз,
Твоим покоем тяготясь!
Но благодушно что-нибудь,
На чем бы сердцем отдохнуть
Я мог, пошли мне! Я устал,
В себя я веру потерял,
И только память детских дней
Не тяготит души моей…2
Я рос, как многие, в глуши,
У берегов большой реки,
Где лишь кричали кулики,
Шумели глухо камыши,
Рядами стаи белых птиц,
Как изваяния гробниц,
Сидели важно на песке;
Виднелись горы вдалеке,
И синий бесконечный лес
Скрывал ту сторону небес,
Куда, дневной окончив путь,
Уходит солнце отдохнуть.Я страха смолоду не знал,
Считал я братьями людей,
И даже скоро перестал
Бояться леших и чертей.
Однажды няня говорит:
«Не бегай ночью – волк сидит
За нашей ригой, а в саду
Гуляют черти на пруду!»
И в ту же ночь пошел я в сад.
Не то чтоб я чертям был рад,
А так – хотелось видеть их.
Иду. Ночная тишина
Какой-то зоркостью полна,
Как будто с умыслом притих
Весь божий мир – и наблюдал,
Что дерзкий мальчик затевал!
И как-то не шагалось мне
В всезрящей этой тишине.
Не воротиться ли домой?
А то как черти нападут
И потащат с собою в пруд,
И жить заставят под водой?
Однако я не шел назад.
Играет месяц над прудом,
И отражается на нем
Береговых деревьев ряд.
Я постоял на берегу,
Послушал – черти ни гу-гу!Я пруд три раза обошел,
Но черт не выплыл, не пришел!
Смотрел я меж ветвей дерев
И меж широких лопухов,
Что поросли вдоль берегов,
В воде: не спрятался ли там?
Узнать бы можно по рогам.
Нет никого! Пошел я прочь,
Нарочно сдерживая шаг.
Сошла мне даром эта ночь,
Но если б друг какой иль враг
Засел в кусту и закричал,
Иль даже, спугнутая мной,
Взвилась сова над головой, -
Наверно б мертвый я упал!
Так, любопытствуя, давил
Я страхи ложные в себе
И в бесполезной той борьбе
Немало силы погубил.
Зато добытая с тех пор
Привычка не искать опор
Меня вела своим путем,
Пока рожденного рабом
Самолюбивая судьба
Не обратила вновь в раба!3
О Волга! после многих лет
Я вновь принес тебе привет.
Уж я не тот, но ты светла
И величава, как была.
Кругом всё та же даль и ширь,
Всё тот же виден монастырь
На острову, среди песков,
И даже трепет прежних дней
Я ощутил в душе моей,
Заслыша звон колоколов.
Всё то же, то же… только нет
Убитых сил, прожитых лет…Уж скоро полдень. Жар такой,
Что на песке горят следы,
Рыбалки дремлют над водой,
Усевшись в плотные ряды;
Куют кузнечики, с лугов
Несется крик перепелов.
Не нарушая тишины
Ленивой, медленной волны,
Расшива движется рекой.
Приказчик, парень молодой,
Смеясь, за спутницей своей
Бежит по палубе: она
Мила, дородна и красна.
И слышу я, кричит он ей:
«Постой, проказница, ужо
Вот догоню!..» Догнал, поймал, -
И поцалуй их прозвучал
Над Волгой вкусно и свежо.
Нас так никто не цаловал!
Да в подрумяненных губах
У наших барынь городских
И звуков даже нет таких.В каких-то розовых мечтах
Я позабылся. Сон и зной
Уже царили надо мной.
Но вдруг я стоны услыхал,
И взор мой на берег упал.
Почти пригнувшись головой
К ногам, обвитым бечевой,
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки,
И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный похоронный крик -
И сердце дрогнуло во мне.О Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зарям,
Когда еще всё в мире спит
И алый блеск едва скользит
По темно-голубым волнам,
Я убегал к родной реке.
Иду на помощь к рыбакам,
Катаюсь с ними в челноке,
Брожу с ружьем по островам.
То, как играющий зверок,
С высокой кручи на песок
Скачусь, то берегом реки
Бегу, бросая камешки,
И песню громкую пою
Про удаль раннюю мою…
Тогда я думать был готов,
Что не уйду я никогда
С песчаных этих берегов.
И не ушел бы никуда -
Когда б, о Волга! над тобой
Не раздавался этот вой!Давно-давно, в такой же час,
Его услышав в первый раз,
Я был испуган, оглушен.
Я знать хотел, что значит он, -
И долго берегом реки
Бежал. Устали бурлаки,
Котел с расшивы принесли,
Уселись, развели костер
И меж собою повели
Неторопливый разговор.
«Когда-то в Нижний попадем? -
Один сказал. – Когда б попасть
Хоть на Илью…» – Авось придем, -
Другой, с болезненным лицом,
Ему ответил. – Эх, напасть!
Когда бы зажило плечо,
Тянул бы лямку, как медведь,
А кабы к утру умереть -
Так лучше было бы еще… -
Он замолчал и навзничь лег.
Я этих слов понять не мог,
Но тот, который их сказал,
Угрюмый, тихий и больной,
С тех пор меня не покидал!
Он и теперь передо мной:
Лохмотья жалкой нищеты,
Изнеможенные черты
И, выражающий укор,
Спокойно-безнадежный взор…
Без шапки, бледный, чуть живой,
Лишь поздно вечером домой
Я воротился. Кто тут был -
У всех ответа я просил
На то, что видел, и во сне
О том, что рассказали мне,
Я бредил. Няню испугал:
«Сиди, родименькой, сиди!
Гулять сегодня не ходи!»
Но я на Волгу убежал.Бог весть, что сделалось со мной?
Я не узнал реки родной:
С трудом ступает на песок
Моя нога: он так глубок;
Уж не манит на острова
Их ярко-свежая трава,
Прибрежных птиц знакомый крик
Зловещ, пронзителен и дик,
И говор тех же самых волн
Иною музыкою полн!О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки,
И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски!..Что я в ту пору замышлял,
Созвав товарищей-детей,
Какие клятвы я давал -
Пускай умрет в душе моей,
Чтоб кто-нибудь не осмеял!Но если вы – наивный бред,
Обеты юношеских лет,
Зачем же вам забвенья нет?
И вами вызванный упрек
Так сокрушительно жесток?..4
Унылый, сумрачный бурлак!
Каким тебя я в детстве знал,
Таким и ныне увидал:
Всё ту же песню ты поешь,
Всё ту же лямку ты несешь,
В чертах усталого лица
Всё та ж покорность без конца…
……………………
……………………Прочна суровая среда,
Где поколения людей
Живут и гибнут без следа
И без урока для детей!
Отец твой сорок лет стонал,
Бродя по этим берегам,
И перед смертию не знал,
Что заповедать сыновьям.
И, как ему, – не довелось
Тебе наткнуться на вопрос:
Чем хуже был бы твой удел,
Когда б ты менее терпел?
Как он, безгласно ты умрешь,
Как он, бесплодно пропадешь,
Так заметается песком
Твой след на этих берегах,
Где ты шагаешь под ярмом,
Не краше узника в цепях,
Твердя постылые слова,
От века те же: «раз да два!»
С болезненным припевом «ой!»
И в такт мотая головой…